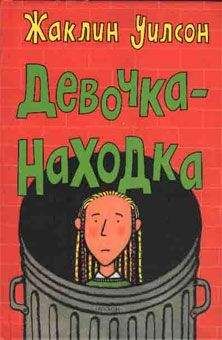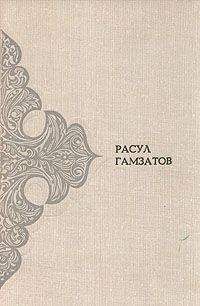Алексей Колышевский - Жажда. Роман о мести, деньгах и любви
– Сережа, давай быстрее! Бегом! Садись с другой стороны, поехали!
Едва я очутился в салоне, как он приобнял меня за плечи, отстранил, всматриваясь в мое лицо:
– Смурной. Не выспался, конечно?
Я посмотрел на него и решил ни о чем не спрашивать.
Глава 10
Паша продался Мемзеру без остатка и сразу. Его не волновали последствия, он знал, что для него плохих последствий не будет. «Хитрые жиды, – сказал сам себе Павлик, – хотят меня сделать крайним. А я крайним не буду. Я и вишенку съем, и косточкой не подавлюсь».
Назвать теперешних хозяев страны людьми умными, разумеется, можно. Скорее всего, это и впрямь соответствует действительности. Умный человек всегда приятен, его видно издалека, он заметен благодаря своим поступкам и умениям. Основным умением нынешней власти явилась способность считать. Звезды в небе, травинки в поле, а также песчинки в каком-нибудь море, например Каспийском, их не волновали, сдается, даже в детстве. Иначе откуда, спрашивается, этот железный практицизм, эта несокрушимая способность «пилить» и «дербанить», да и сами эти словечки, от которых за версту несет откровенной уголовщиной, откуда? Прав, прав был старик Солженицын. Чего еще ожидать от страны, где половина сидела, а другая половина писала доносы и охраняла посаженных? Финансовая глобальная идея тем пришлась по душе этим «пильщикам», что позволяла им, как людям, от чьих решений зависило все в этой стране, молниеносно разбогатеть, увеличить собственный капитал по схеме гипотезы возникновения Вселенной в результате космического взрыва: трах-тарарах – и вот оно, в слитках, ассигнациях, ценных бумагах, дворцах, бриллиантах, словом, во всем, что имеет в этом мире свою особую цену, если во главе списка активов стоит реальная, поддержанная в очередной раз оболваненным народишкой власть. За короткое время, прямо на глазах у Мемзера, сколотилось в России сообщество «пильщиков», которые никого не боялись, потому что бояться им было некого, потому что во главе всех российских пильщиков встал бригадир, который был и сам не прочь поскорей оприходовать выделенную ему по праву старшинства лучшую делянку. И мало того, что у самого было, так он еще и от других делянок получал, а ежели кто, к примеру, артачился, тех в места холодные, чтобы и там пилить продолжали, но только уже не иносказательно, а в прямом, значит, смысле, а делянка ихняя конфисковывалась. Одним бригадиром, конечно, дело обойтись не могло: страна большая, пока на одном краю со сна потягиваются, на другом спать укладываются, – и взял себе бригадир помощников. Как раз те делянки, которые освободились, он этим помощникам и передал. Вот к такому-то бригадиру пильщиков и зашел Павлик, чтобы о жизни поговорить, о всяких там приятных разностях, и заодно предложение Мемзера как следует обсудить.
* * *«Бригадир сидел при полной власти, в пиджаке, рубашка расстегнута по последней моде. На руке – Паша всякий раз забывал рассмотреть, на которой именно, – большие часы с гравировкой «За всё» на задней крышке. В углу кабинета – знамя с кистями, вышитое ивановскими ткачихами, – подарок. Над головой бригадира висел портрет двуглавого орла, обрамленный в тяжелую раму. Портрет изображал этого самого орла и больше, собственно, ничего не изображал...»
Закончив печатать, Андрей Молодых подровнял небольшую стопку еще горячих после принтера листков, скрепил их гигантской медной скрепкой и убрал в расшитую бисером хипповатую сумку. Посмотрел на оставшийся на экране компьютера текст и внезапно ощутил противный, липкий – не страх даже, а лишь его предчувствие. Журналистов убивают и за меньшее, когда они осмеливаются критиковать местечковых, никому в масштабах страны не известных царьков, а тут целая пьеса, и персонажи ее – люди более чем серьезные. Такие просто разотрут его каблуком об асфальт, как глупого кузнечика. До Бога далеко, до Кремля высоко, некому пожалиться...
Всё, или почти всё, исключая некоторые имена, которые никак не могли быть ему известны, описал в своей пьесе московский драматург. И с чего он выбрал именно эту тему? Черт его знает. Видать, оттого припекло драматурга, что ему элементарно нечего было кушать, вот и написал, так сказать, на злобу дня, а написав, отнес свое творение в один из московских театров. Пьесу там читать не стали, попросили все упростить, сжать, одним словом, сделать то, что на театральном языке называется либретто, и это самое либретто в один из вечеров и было, наконец, прочитано.
Начинающий драматург закончил читать и обвел членов художественного совета смущенным взглядом. Те сидели, словно громом пораженные. В помещении повисла легкая, готовая в любой момент прерваться, тишина. Наконец художественный руководитель театра, лишенный в свое время советского гражданства, а ныне почтенный, полностью реабилитированный старец с очень умным вдохновенным лицом еле слышно хлопнул в ладоши. И тут же все, восприняв этот знак, как и подобает дружному коллективу, принялись аплодировать. Атмосфера вмиг сделалась непринужденной, кое-кто дружески трепал Молодых по загривку, пощипывал за рукав, поздравлял с творческой удачей. И лишь старец так и продолжал сидеть на своем любимом стуле с медными гвоздочками, перехватившими по сторонам черную кожаную обивку. Сидел и молчал, смотрел на то, как члены худсовета награждают молодого драматурга хвалебными отзывами. Ему очень жаль было этого мальчишку, он (конечно же, а как иначе) вспомнил себя в этом возрасте, такого же правдивого, совестливого, ничего не боявшегося. Родившемуся в год революции, прошедшему войну, получившему международное признание, а на родине заочно лишенному гражданства театральному режиссеру была как никому ведома капризная и трагичная судьба художника. Да, нынче не лишают гражданства, не выбрасывают из страны, но вполне могут вынудить из этой страны уехать или ославить на весь честной мир, лишить работы, а с тем и средств к существованию. «Умный мальчик, – подумал старый режиссер. – Умный и правдивый. Быть ему или не быть? – вот в чем вопрос. Пусть уж лучше БУДЕТ».
– Мгм, – буркнул старец, и тишина тут же выпорхнула откуда-то из-за угла, словно никуда и не отлучалась. Все замолчали, повернули головы на это «мгм».
– Да. Пьеса хороша, – трескучим басом проговорил старик. – Определенно. И сатира в ней есть, и современность, и от классики она совсем недалеко ушла. Тема-то вечная, воры и сатрапы. Хорошая пьеса.
Все наперебор стали продолжать расхваливать «чудное творение», а автор Молодых смутился окончательно и с наслаждением краснел, предвкушая гонорар, свое участие в репитициях и генеральном прогоне, аншлаг на премьерах и вхождение в узкий круг московской драматургической профсоюзной организации, члены которой сами себя именовали «Рабы Мельпомены, чтоб ей сдохнуть».
– Но только вот ставить-то мы ее не будем, – продолжил старик. – Не то сейчас время. Закроют театр к чертовой матери. Вернее, может, сразу и не закроют, а сделают какую-нибудь пакость, здание отберут. Все что угодно может статься. И тебе, парень, неприятности ни к чему. Знаешь, стишок есть хороший. Как же там? А! Вот: «Пришло ОГПУ к Эзопу и хвать его за жопу». Уж поверь мне, я таким же был, многим поплатился, меня на второй раз не хватит. Вот помру, – все члены худсовета протестующе зашумели, – тогда и ставьте. Не то время, не то... Цензура, брат. А потом, ведь в пьесе-то все правда. А за правду они нас с дерьмом съедят. Они так всегда делают. Так что прости уж, Андрей Молодых. Лучше уж я тебе жизнь спасу. Ничего, нос не вешай. Молодой еще, может, доживешь до светлых времен, когда такое можно будет играть. Иди с богом...
* * *Сатира, гротеск, аллегория... Голоса ваши все тише, и все чаще люди искусства испуганно шарахаются от одного только упоминания, одного лишь намека на то, о чем пойдет речь в романе, пьесе, поэме...
Откуда взялся этот Молодых? Что потом с ним сталось? Кому ведомо? Всплыл было, да тут же и потонул в цензурной трясине. Может, и правда, может, и хорошо, что так все вышло. Жив, жив Андрей Молодых, пишет в легком жанре для сериалов «Ранетки» и «Няня». Смотрите, граждане, ни в чем себе не отказывайте. Смешно ведь.
* * *Пьеса-то пьесой, а не прошло и недели с момента встречи Мемзера, министра и Арика, как те самые шестьдесят миллиардов долларов были переведены на счета ипотечных агентств «Хэппи дэй» и «Тедди лак» под строжайшим секретом. Деньги эти были взяты из неприкасаемого стабилизационного фонда, который запасливый Паша никому не позволял трогать. Когда же депутаты Государственной думы, свежеизбравшись, решили позвать Пашу и спросить, а с чего это, собственно, он не разрешает трогать заветный фонд, где скопилась к тому времени весьма заманчивая сумма (некоторые депутаты очень даже рассчитывали кое-что отщипнуть от нее себе лично), Паша выступил перед ними с небольшой речью. Прессу перед его выступлением из зала заседаний удалили, точнее, ей вообще не разрешили в тот день войти в здание на Охотном Ряду. Вот вкратце то, о чем сказал министр Паша за закрытыми дверями: