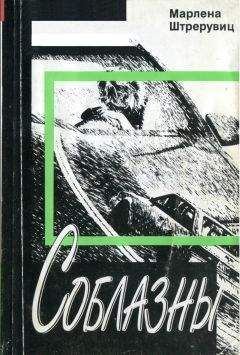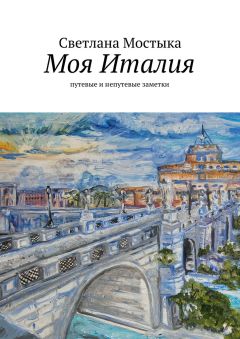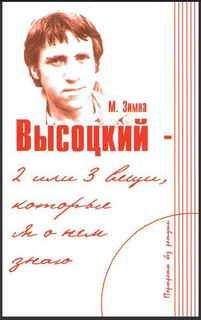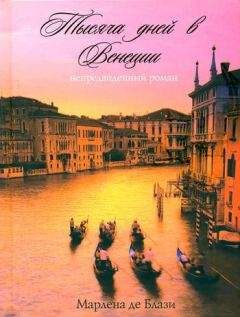Марлена Штрерувиц - Без нее. Путевые заметки
[История Эрнста Кренека]
Мы познакомились, когда были еще очень молоды. Я уже тогда знал, что буду композитором. — Я учился в Берлине. В институте. И в институте однажды устроили бал. Году в 1922-м, и там я познакомился с Анной. На этом балу. Она была там одна, потому что уже разошлась с этим своим первым мужем. По-моему, его звали Коллер. Руперт Коллер. Мы не были знакомы. Итак, она была одна, и там я с ней познакомился, и так мы сошлись. Потом мы вместе жили в Берлине, на Вюрцбургер-штрассе, у старой фрау Эрдманн. Эдуард Эрдманн был пианистом и композитором. Он тоже писал музыку и был очень дружен с Артуром Шнабелем, а у его матери была квартира на Вюрцбургер-штрассе, и она сдавала комнаты. И мы сняли у нее комнату. Или две. По-моему, две, и жили там некоторое время. Тогда Анна рисовала, насколько я помню, иллюстрации. Иллюстрации к книге Гофмана. Она называлась «Золотой горшок». — Так вот, к ней она рисовала иллюстрации. Маленькие. Что с ними было дальше, я не знаю. Понятия не имею. Наверное, пропали. Насколько я помню нашу жизнь в Берлине, мы иногда бывали у Эрдманнов в Груневальде, а так мы не часто выбирались в гости, как мне кажется. — Рисовала она больше, чтобы время убить. Можно сказать, по-дилетантски. — Она играла на фортепьяно и виолончели. На виолончели играла непрофессионально. Иногда мы играли вместе с одним из моих друзей, с неким Фрицем Демутом. Он был педиатром. Не знаю, как меня угораздило с ним познакомиться. Так или иначе, мы подружились, он играл на скрипке, и мы иногда исполняли трио. Но всегда — не очень успешно. Ничего из этого не вышло. — Думаю, мы вели весьма богемный образ жизни. Не знаю, к чему она привыкла в первом браке. Думаю, к чему-то другому. Подробностей уже не помню. Давно это было, 70 лет назад. Где мы готовили, что ели? — Эта старая фрау Эрдманн была той еще штучкой. Жуткая старая карга. Грязная и противная. Я тогда слышал краем уха, она была уже очень старая и вскорости должна была помереть, и вот помню, как брат Эрдманна сказал, она хочет, чтобы ее похоронили в Риге. Стало быть, там, откуда она родом, из Прибалтики. И тогда брат сказал, попробуй отвезти ее туда живьем. Все дешевле, чем труп возить. — Вот так мы жили. Альма была раз в Берлине. Это я помню. Я терпеть ее не мог. — Я знал и слышал о ней. Но с трудом перенес то недолгое время, что пришлосьс ней общаться. Тогда. Но подробностей не помню. Лето было. Поженились мы потом в Вене. Да, в Вене. Там был этот Верфель, читал свой роман о Верди. Тогда мы еще не были женаты. Поженились позже. Зимой 1923-го. Тогда мой первый концерт для фортепьяно исполнялся в Винтер-туре, в Швейцарии, играл Эрдманн, и он пригласил меня с Анной послушать. И вот мы были в Винтерту-ре, и там был Вернер Райнхарт, винтертурский меценат, который содержал оркестр. Он был очень богат, и он предложил мне, если я захочу на какое-то время задержаться в Швейцарии, положить на мое имя определенную сумму в Швейцарский Федеральный банк, или как он там называется, и я могу там жить, пока эти деньги не кончатся. Ну, такое мне дважды повторять не надо. Тогда он нас потом отвез в Энгадин. Там мы были неделю на Рождество, а потом поехали в Вену и здесь поженились. Мы тогда думали, что будем жить в Швейцарии, а там любят, когда люди женаты. — Вот мы и поженились из-за Швейцарии. И потом в Швейцарии некоторое время и жили. В Цюрихе, и она тогда к одному художнику… По-моему, это был некто Куно Амит. Он жил в деревне, недалеко от Берна, и там у него была мастерская. Она туда поехала и работала с ним какое-то время, чтобы усовершенствоваться в живописи. Значит, тогда живопись все еще играла в ее жизни какую-то роль. Но меня это не слишком устраивало. Как сказано, потом она вернулась. Потом мать вызвала ее опять в Венецию. У нее ведь был в Венеции дом, и Анна должна была туда приехать. Это меня тоже не слишком устраивало. И мы поэтому немножко поссорились. Это было начало. — И все это она делала. Почему она это делала… Она ведь с матерью тоже неособенно ладила. То, что они не в ладах, было не очень заметно, но чувствовалось, что есть противостояние. И тогда я увидел и старуху. Мать Альмы. Она же была замужем за Моллем. За тем Моллем, что стал потом нацистским вождем. Да они все такими были. И Альма тоже. И до какой степени. Страшная особа. Не понимаю, почему она всю жизнь путалась с евреями. — Помнится, когда Альма жила в Нью-Йорке, она там выпустила что-то автобиографическое, книжку какую-то. Полная чушь. И однажды она пригласила меня на обед, потому что хотела извиниться за ту писанину, что была в ее автобиографии обо мне. Сначала она объясняла шоферу, как ехать. Все неправильно. Потом мы сели за стол. Обед. Не помню уже где. Где-то в центре.
А после еды она сказала, не пойдешь ли ты вперед, на улицу, мне надо еще кое-что уладить. Я подумал, ей нужно в уборную и она не хочет, чтобы я это видел. Тогда я вышел на улицу, а потом — она. «Знаешь, я задержалась, потому что они теперь берут пятнадцать процентов на чай. Мне же не сосчитать. Десять я еще могу. Но пятнадцать… Откуда мне знать, сколько это». — Но мы не собирались говорить об Альме. — Стало быть, Анна поехала в Венецию, и это стало началом конца. Я потом тоже приехал в Венецию, а она была одна в доме. Думаю, тогда мы виделись в последний раз. В Венеции. Я поехал оттуда во Францию, навестил Стравинского. А ее я больше не видел, только потом, намного позже. — Бракоразводный процесс я почти не помню. Это было в Вене, во Дворце Юстиции. Ничего вообще не помню. Там еще кто-то был. Свидетель ка-кой-то. Не помню, как звали. Ее не было. Формальная процедура. Бумаги потом сгорели вместе с Дворцом. И не осталось никаких доказательств. Вообще ничего. А потом мы все-таки виделись еще раз. Но мельком. В том доме Альмы, что неплохо описан у Канетти. Даже хорошо. — Этот Канетти, кажется, влюбился в Анну. Прямо об этом в его книге не говорится, но можно понять. А вот описание дома очень хорошее. Я там и еще раз был. Но плохо помню. — Я ведь вам уже говорил, что в Венеции мы виделись в последний раз, пока были женаты. Потом — развод. Мне было 25. Или 24. — Я ведь в то время очень много писал. Даже не понимаю, как мне это удавалось. Вообще. Большие, длинные вещи. Очень быстро. Сейчас я бы так не смог. Но, как сказано… Минутку. Минутку. Мы еще были вместе. В каком же году это было? Летом. На Балтийском побережье. Погодите. Значит, мы были в Швейцарии, в 23-м и в 24-м мы жили в Швейцарии. Но было еще лето на Балтике. Эрдманн там снял какой-то дом, и мы там были вместе. В каком же году? Сейчас выясним. Надо посмотреть, когда я написал Вторую симфонию. Это было в то же время. Вторую симфонию я дописывал на этой даче Эрдманна, и это было на Балтике в 1922 году. Эта симфония посвящена Анне Малер, значит, тем летом мы были на Балтике. Явно вскоре после того, как познакомились, потому что в 23-м мы были в Брайтенштайне. В 24-м — в Швейцарии, а потом… Потом все развалилось. — Сколько помню, она убивала время живописью. О чем беседовали — не очень помню. О сочинении музыки. Что-то такое. Не помню. Каждый делал свое дело, и мы не слишком много об этом говорили. Я ведь тогда еще учился у Шрекера. Его это тоже не очень интересовало. Он приезжал раз в месяц и доставал из кармана бумажку: «Вот, поглядите, что они опять пишут в Биттерфельде!» Как будто нас это интересовало. И исчезал снова. Как сказано, потом я с ним дела не имел. Вообще. — Очень жаль, что не смог вам подробнее пересказать разговоры. — Расхождения в образе мыслей? Вроде бы нет.
* * *
Фрау Кренек встала и принялась перекладывать стопки бумаг на рояле у двери на террасу. Маргарита взглянула на часы. Полчаса давно истекли. Маргарита выключила диктофон. Поблагодарила. Не отходя от рояля, фрау Кренек спросила, не выпьет ли она чего-нибудь? Маргарита отказалась. Встала. Она и так злоупотребила временем Эрнста Кренека. Он тоже поднялся. Ему это в удовольствие. И он проводит ее до дверей. У двери он рассказал Маргарите, как после премьеры одной из его опер в Вене Альма отправилась к директору театра и потребовала долю в сборах. Для Анны. Не может быть! Маргарита засмеялась. Может-может, сказал Эрнст Кренек. И деньги она получила. Тогда в Вене Альма Малер была особой, с которой все считались. Фрау Кренек окликнула мужа, не выходя из комнаты. Где он? Маргарита быстро попрощалась. Улыбнулась Кренеку. Он улыбнулся в ответ. Остался в дверях. По дороге она оглянулась. Он все стоял в дверях своего маленького розового бунгало. Поднял руку. Маргарита помахала ему. Вокруг дома понатыканы таблички «armed response». Маргарита дошла до машины, которую поставила в стороне. Когда она проезжала мимо дома, никого уже не было видно. Маргарита ехала обратно к федеральной трассе 111. Доехала по ней до Палм-Спрингс. Широкие улицы. Сочные зеленые газоны. Густые цветущие кусты. Пышные пальмы. Уличные кафе и торговые центры. Она ехала дальше. Начались жилые дома. Развернулась. Возвратилась в торговый квартал. Припарковалась. Опустила монеты в парко-вочный автомат. Решила пройтись. Но она слишком тепло одета. Жарко. Включены все поливалки. Вода журчит в каждой клумбе. Течет ручейками вдоль газонов, отделяющих проезжую часть от тротуаров. Переливается через края вазонов. Она вошла в ближайший универмаг. Прохладный воздух. Тень. Прошлась вдоль витрин. Одежда. Украшения. Обувь. Все известные фирмы. Вышла на другую сторону. Перешла улицу и вошла в следующий универмаг. Снова одежда, обувь и украшения. Снова — все известные фирмы. Вокруг торопятся люди, быстро идут куда-то, толкаются. Все одеты по-летнему. В светлых пестрых бермудах. Она пошла вниз по улице. Подумала, не сесть ли за столик уличного кафе. Но там слишком жарко. Она зашла в третий универмаг и приземлилась в тамошнем ресторане. Заказала чизбургер. Со швейцарским сыром, пожалуйста. И легкую колу. Сидела в прохладе. Посреди пустыни — и прохлада. И как много воды в канале. Откуда она? И эти здоровые сильные люди. Бермуды не скрывали мужских ног. Белых мужчин. Нигде ни одного афроамериканца или мексиканца, даже среди персонала магазинов и кафе. Эти сильные белые мужские ноги. Мускулистые. Загорелые. Поросшие светлыми волосами. Теннис и гольф, вероятно. Палм-Спрингс знаменит своими площадками для гольфа. Его называют оазисом. В ее путеводителе написано, что Палм-Спрингс — оазис для гольфменов. С искусственным орошением. Вырванный у пустыни. Официант положил перед ней гамбургер. «Enjoy»,[173] — произнес он и улыбнулся, словно и впрямь желал ей получить удовольствие. Маргарита взялась за еду. Придавила верх чизбургера, чтобы можно было откусить, обмакнула в кетчуп и откусила. Правильно ли, что во время этих бесед она просто дает людям говорить? Может, надо указывать на противоречия, задавать наводящие вопросы. Брак с Кренеком. Это могло быть, со стороны Анны, попыткой повторить в улучшенном варианте брак матери с Малером. Она не хотела изображать музу? Или просто разлюбила его? Отправилась на поиски большой любви. Не то причиной разлуки явилось сходство с материнской ситуацией. Или стало невыносимо. Или скучно. Как бы то ни было, о причинах расставания она не спросила. А он вспоминал о нем лишь как о факте. Всего на минуту рассердился. Как он мог работать в Швейцарии? Спокойно? А она уехала к матери. В остальном же вспоминал прожитую жизнь с иронией. Разве ж можно было расспрашивать о любовных переживаниях в присутствии нынешней жены? Да и к чему. Ведь именно в них больше всего лжи. Если она вообще есть. Она же не допрос ведет. Наверное, это не для нее. Она хочет понимать людей, а не давить на них. И не хочет, чтобы на нее давили. Она откусила от гамбургера. Булочки у них особенно удались. Ее взгляд упал на женщину с молодым человеком через несколько столиков. Юноше было лет семнадцать. Или меньше. Женщине — около тридцати. Или больше. Могло быть и пятьдесят. Женщина — небольшого роста. Изящная блондинка. В лифчике от бикини, гармонирующих с ним голубых бермудах и белых кроссовках. Симпатичное лицо. Гладкое. Короткий нос. Голубые глаза. Медовый загар на коже. Цветочный мед. Безупречная кожа. Ни прыщика, ни синячка. Ни волоска. Пышная грудь. Теснится в вырезе бикини. Женщина что-то строго выговаривает молодому человеку. Спорит, наклонясь к нему через столик. Он смотрит в свою тарелку с картошкой-фри. Перед женщиной — стакан воды. «Регпег». Рядом с ней Маргарита показалась себе мрачной и тяжеловесной. Мелькнула мысль отказаться от чизбургера. Ради фигуры. И не стоит ли хоть попытаться загореть? Потом опять принялась за еду. Такое телесное совершенство. Просто зависть берет. Сильная. Но в конечном счете — точно такое же достоинство, как латынь с отцом. И греческий. Для отца. Добиваясь его признания. Прося, чтобы впустил в свой мир. Мечтая, что в этом мире она заслужит признание. Станет равной ему. Будет делать вид, что всех презирает, и заслужит позволение остаться, прогоняя других. А вечером — со всеми подряд. Раз не с ним, так с кем попало. Сохранение девственности посредством разбазаривания. А в какой мир ты попадешь с красотой? На площадку для гольфа в Палм-Спрингс? На берега искусственных ручьев? Наверное, надо было исправить нос. Сделать пластическую операцию. И увеличить грудь. И впредь не с каждым первым встречным, ас каждым первым встречным хирургом-косметологом со скальпелем. Улучшать фигуру. А отец бы платил. Или его преемник. Вместо маленького, курносого, фотогеничного носика у нее голова, забитая двумя мертвыми языками и фантазиями. Еще большой вопрос, что лучше. Счастье, что появилась Фридль и все расставила по местам. В конечном счете все хорошее, что у нее есть, связано с этим ребенком. В кафе влетела компания девушек. Они уселись между нею и красивой женщиной с молодым человеком. Маргарита расплатилась. Вернулась через универмаг к машине. Поливалки продолжали работать. Пахло выхлопными газами и мокрой травой.