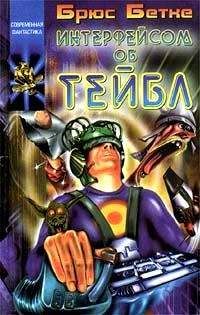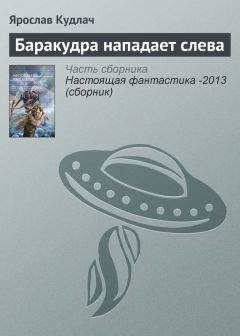Мартин Бедфорд - Работа над ошибками
Да.
Он знал, что вас разыскивает полиция?
Я ему сказал.
Но не сказали, почему.
Нет, сказал. Частично.
Вас не волновало, что, вернувшись домой, вы, так сказать, подвергаете себя риску? Что вас могут арестовать?
Я пожимаю плечами. Я хотел, чтобы он понял.
Что понял?
Просто понял.
Когда мое дело передадут на рассмотрение суда, мой адвокат будет меня представлять. Это самое представление меня очень занимает. Весь этот символизм, действие от лица кого-то и вместо кого-то, попытка выразить, отобразить чужую суть. Адвокатское искусство – искусство изобразительное, в том смысле, в частности, что секрет успеха кроется в чрезвычайном внимании к деталям, к достоверности, к реалиям. К фактам. Энди не терпел реализма. Реальный по сравнению с чем, всегда спрашивал он. Также он не терпел утверждения, что задача искусства (а следовательно, и задача художника) состоит в воспроизведении действительности и что картина непременно должна изображать что-то и быть о чем-то. Эндрюсианский афоризм:
У меня как художника одна задача: замазать холст так, как мне хочется, либо, если не хочется, не замазывать вовсе.
Этот лозунг висел у него над камином в кабинете на «Фабрике», до сих пор, надо полагать, висит. Рядом с надписью «НЕ КУРИТЬ». Мистер Эндрюс говорил: «Это мои жизненные принципы. И если второй я нарушаю чаще, чем первый, то лишь потому, что на выкуривание сигареты уходит куда меньше времени, чем на написание картины».
Мой адвокат, под легким давлением с моей стороны, определяет свои обязанности следующим образом: постараться добиться справедливого отношения к клиенту. В деле Короны против меня, Грегори Линна, «справедливым» станет приговор, адекватный ограниченности моей ответственности. С этой точки зрения, говорит адвокат, он и будет меня представлять. И основная трудность заключается лишь в моем нежелании и, как бы получше выразиться, неспособности представить ему связную информацию, на которую суд сможет опереться при вынесении вердикта. М-да. Что на свободе, что под стражей, я для них неуловим. И хотя всю вину за это адвокат пытается свалить на меня, проблема, безусловно, в нем. Он из тех людей, которые, увидев абстрактную картину, сразу начинают спрашивать: а что это значит? Они зациклены на фактах, на непротиворечивости сведений. После ареста меня сфотографировали. На фотографиях – мое лицо в фас и в профиль. Если бы мне вздумалось сбежать, эти фотографии поместили бы в газеты и показали по телевизору. Для опознания они бы сгодились. Идентичность, если говорить о простом физическом сходстве, неизбежно сводится к чему-то внешнему, поверхностному. Именно такого рода сведения пытается, к несчастью для самого себя, извлечь из наших бесед мой адвокат. Он хочет, чтобы плоды работы моего сознания можно было, как фотографии, пронумеровать, рассортировать по датам, проштамповать и убрать на хранение. Создать серию моментальных психологических снимков, слепок моего сознания. Набросок моей личности, при сравнении которого с оригиналом всякий человек непременно бы восклицал: мой бог, ну до чего же похоже!
А хрен-то. Вот что я скажу.
Я вошел с черного хода, с задворков. С замком на калитке справился легко, а ключ от задней двери у меня был. Ночь стояла облачная. В доме было тихо, свет в окнах не горел. Все спокойно. Я открыл дверь и бесшумно, как вор, вошел в дом. В кухне было холодно и как-то затхло, в воздухе висел отчетливый запах заплесневевшей пищи. Я включил свет. Все как было в день моего отъезда в Оксфорд – тарелки и сковородки на сушке, неоплаченный телефонный счет на столе, там, куда я его и положил. В других комнатах первого этажа сразу был виден непорядок: ящики и дверцы закрыты неплотно, мебель передвинута. Всюду духота, пыль. На коврике перед дверью гора почты: рекламные листки, пицца на дом и тому подобное, бесплатные газеты, записки – явно от тети, – которые я не стал читать. Я поднялся наверх. Дверь в мою комнату была закрыта, но не заперта, ручка болталась свободно, и я увидел, что на месте замка красуется дыра.
Они забрали абсолютно все: стена над письменным столом была совершенно голая (лишь комочки клейкой голубой пасты свидетельствовали о том, что когда-то здесь висели карты и настенная таблица), ящики стола – открытые и пустые (один из них выдвинули так далеко, что он вывалился), коробки с досье исчезли, папки и бумаги, которые я сложил на столе, пропали. Они забрали у меня все, даже ручки и карандаши, даже линейку, даже баночку клея, которым я приклеивал фотографии. Я не мог отвести глаз от стены, от стола, от запорошенных пылью квадратных следов коробок на ковре, я смотрел так, словно исчезнувшие предметы в любую минуту могли появиться снова. Но найти удалось лишь то, что можно было заметить только внимательным взглядом, – ряды серовато-белых комочков жеваной бумаги, испещрявших внутренние поверхности стола, стула, ящиков.
Заметки о символических изображенияхНекоторые знаки древних письменностей происходят от стилизованных изображений предметов, которые они обозначали. Например, около 1500 года до н. э. в семитских языках слово «бык» передавалось на письме символом V, изначально возникшим как примитивное изображение головы быка. Этот знак читался как некий горловой звук, который всякий человек, говоривший на данном языке, понимал как слово «бык». При этом, однако, следует иметь в виду, что картинка не есть бык, слово не есть картинка, а звук не есть слово. У многих так называемых примитивных народов – например, у сибирских юкагиров – существует целая система передачи довольно сложных сообщений графическим способом (т. е. с помощью картинок), вне всякой связи с разговорной речью – имеется в виду, что передаются мысли, образы и идеи, для которых в языке не существует никаких слов или выражений. В Китае один и тот же иероглиф (или морфема) произносится жителями двух разных районов страны настолько по-разному, что эти люди могут вообще не понять друг друга.
Полиция перевернула вверх дном мою комнату, но не сочла нужным конфисковать десятки школьных тетрадок, заполненных сценами из моей жизни; начиная с самой первой, со смертью папы, до той, где улетает мама, где ей приходится парить в воздухе, потому что я, своими цветными карандашами, не сумел изобразить небеса. Полицейские сочли мои картинки неинтересными, глупыми, детскими. Впрочем, теперь, когда мой адвокат решил использовать их для смягчения приговора, они были скопированы и переданы стороне, представляющей Корону.
Раньше тетрадки были аккуратно сложены на газетах внизу шкафа. Теперь они валялись в углу, вперемешку с одеждой, ботинками, скомканным постельным бельем, которое полицейские сорвали с кровати, торопясь, видимо, провести обыск под матрасом (кстати, тряпочка для спермы тоже исчезла). Я, соблюдая хронологический порядок, разложил тетрадки на голой кровати – из обложек получилось красивое лоскутное одеяло, – а потом стал их просматривать. Подряд, страницу за страницей. В каждом комиксе рассказывалась своя история, и все вместе они тоже рассказывали свою историю, и все истории были одинаковые: случилось это, потом то. Разные способы выразить одно и то же. Даже когда я смотрел картинки выборочно – как попало – и события происходили в другом порядке, то история в целом от этого не менялась: случалось это, потом то.
Читать я закончил в три часа ночи. Некоторое время я дремал сидя, прислонившись головой к спинке кровати, и, вздрагивая, просыпался всякий раз, когда тетрадка соскальзывала с колен на пол. Потом я собрал их все вместе и, мамиными парикмахерскими ножницами, вырезал сначала сцены из школьной жизни, а потом сцены из домашней жизни. Разделил их на стопки – отдельно школа, отдельно дом – и по очереди пересмотрел и сверил. И опять истории получились разные, но в то же время одинаковые: случилось это, потом то. Но когда я попытался разложить картинки в правильном порядке, оказалось, что у меня ничего не получается. Я слишком устал, слишком сильно запутался; перестал различать детали. В конце концов я вообще мог узнать только себя и Дженис. Но не способен был отличить себя двенадцатилетнего от себя двадцати– или тридцатичетырехлетнего, а первую Дженис от второй. Что же касается учителей, тети, мамы с папой… они слепились в один общий ком. И лишь по нумерации страниц – а не по самим картинкам – я смог восстановить изначальный порядок. Только теперь страницы в тетрадях не были закреплены и легко могли выскользнуть из-под обложки.
Рассвело. Я выключил свет в спальне и спустился вниз. Тщательно обследовав кухню, нашел пустую коробку и то, чем ее заполнить: консервы, печенье, сырные крекеры, банки с арахисовым маслом и джемом. Консервный нож, столовые приборы. Потом я наполнил водой из-под крана кастрюли и пустые молочные бутылки. Нелегко было затащить их на чердак, не пролив ни капли. Переправив провизию на чердак, я взял из своей комнаты одеяло, подушку, зимнюю куртку – ту самую, с капюшоном, – а также пустой блокнот и карандаши, которые прихватил из квартиры мистера Эндрюса. Я вывинтил лампочку из светильника рядом со своей кроватью и вкрутил ее на чердаке. Пощелкал выключателем. Все работало. Последний раз сходил в туалет – отныне моча и кал будут поступать в ведро с крышкой, куда я налил немного воды и жидкости для мытья полов. Убедившись, что сделано все необходимое, я в последний раз залез на чердак и чуть не свалился оттуда, когда встал на колени у открытого люка, чтобы поднять наверх складную лестницу. Я захлопнул люк. Он издал глухой деревянный щелчок и полностью перекрыл доступ дневному свету.