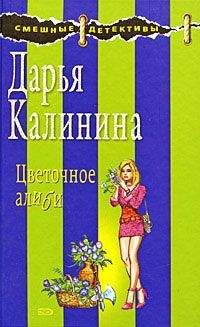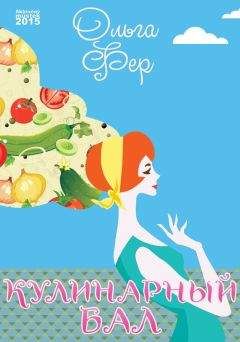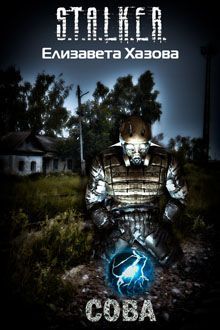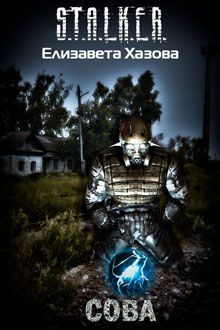Амир-Хосейн Фарди - Исмаил
Самым ярым противником взглядов Камеля была его собственная мать, которая всякий раз, как слышала эти рассказы, раздражалась и с сильным акцентом и с ошибками говорила: «Я все это своими собственными глазами видела, всю эту лавочку, всю эту голодную педерастию, женщин танцующих. Ой, бесстыдно это было! И Реза-шах тоже чадры срывал. Все они заодно, в одной куче были», и глаза ее наполнялись слезами, голос дрожал, а щеки краснели.
Исмаил и Камель уходили в кофейню, где люди пели песни о любви. Потом шли на улицу Шахгейли и в другие места, о которых Исмаил ничего не знал. Намазы он читал в мечети Тебриза, где затерянность в толпе давала ему чувство спокойствия. Здесь, в Тебризе, он открыл для себя книгу «Хейдар-баба»[35]. Хотя он с трудом читал на тюркском языке, все-таки его очаровала весомость и печальный ритм языка этой книги, и иногда некоторые ее фразы он повторял про себя.
Книги Самада Бехранги он читал еще в Тегеране и знал о гибели его в водах Аракса. Он попросил Камеля пойти вместе с ним на кладбище, где была могила Бехранги. Камель отказался. Исмаил не настаивал. Он узнал, где находится кладбище, и пошел один. Могилу разыскал с трудом. Она была заброшена, могильный камень занесен прахом, ясно было, что давно сюда никто не приходил, не навещал могилу. Исмаил посидел возле нее и прочел поминальную суру.
Через несколько дней после его приезда в Тебриз Камель заговорил о человеке, которого назвал «дядюшка Мешхеди Аму-оглы». Он сказал:
— Это человек замечательный. Я знаю, он тебе понравится.
Исмаил спросил:
— Он твой родственник?
— Нет, зовут его Маш Аму-оглы, просто я так называю его, «дядюшка».
— Чем он занимается?
— Ничем особенным, учительствует в одной деревне недалеко от Мешкиншехра. А летом приезжает в Тебриз.
Исмаилу захотелось встретиться с ним. Всякий раз, как слышал о нем, он в шутку спрашивал:
— Камель, этот Аму-оглы — тоже бомбист и экстремист?
— Нет, друг мой, Аму-оглы вовсе не такой.
Дом его находился на улице узкой и невообразимо кривой, перекрученной, где стены некоторых дворов были глинобитными, полуразрушенными, и в трещинах их гнездились воробьи. Камель остановился против большой деревянной двери и сказал:
— Это здесь.
Исмаил волновался.
— Не помешаем мы ему? То есть я не помешаю?
— Иди смелее, никто не помешает.
На старинной двустворчатой двери висело два больших дверных молотка. Исмаил дважды постучал. Немного погодя дверь открылась. В дверном проеме стоял полноватый мужчина среднего роста, широкоплечий, белокожий, с редкими каштановыми волосами на крупной голове. У него были широченные усы, а глаза напоминали две блестящие спелые виноградины. На вид ему было лет сорок. Он хрипло рассмеялся и дружелюбно сказал:
— А я уж думал, куда подевался контрабандный пророк?
— На хлеб зарабатывал, Маш Аму-оглы, уж простите!
Блестящие глаза Аму-оглы внимательно всмотрелись в Исмаила, и он с улыбкой сказал:
— Салям, брат мой, добро пожаловать, заходите.
— Это господин Исмаил, мы с ним недавно познакомились.
— Я так и понял, и рад этому.
Он посторонился от порога, движением руки приглашая гостей войти. Двор был большим, вымощенным старинными плитами. Посередине — круглый пруд, на воде которого колыхалась тень ветвей высокого тутового дерева. Вдоль выемки для мытья ног стояли горшки с цветками петуний. Во двор выходили три расположенные в ряд комнаты. Их относительно низкие двери были украшены тонкими железными завитками. Они вошли в среднюю дверь. Потолок внутри был высокий. Его поддерживал ряд старинных деревянных столбов, между которых висели выцветшие циновки. На стене — большое рисованное изображение Саттар-хана и бойцов Конституционной революции, а кроме того — цветные фотографии гор и долин Азербайджана.
Исмаил все еще осматривался в комнате, когда Маш Аму-оглы вошел, неся на подносе три стакана свежезаваренного чая. Он посмеивался, и глаза его добродушно блестели. Поставил поднос и сказал:
— Никого нет дома, если чай слабый — извините, крепкий — извините, горячий — извините, холодный — извините, не заварился — извините. Словом, извините меня, и все тут!
Камель спросил:
— Тихо у вас, никого нет?
— Да, брат с семьей как раз уехали. Я один.
Он сел. Руки его были белыми и мускулистыми, кисти — мясистыми, сильными, с толстыми пальцами, похожими на пальцы Хедаяти. Исмаилу вспомнился Тегеран, банк и улица Саадат, потом представилось обеспокоенное лицо матери, которая сейчас стучится во все двери в поисках его. Стало нехорошо на душе. Голос Маш Аму-оглы привел его в чувство.
— Я очень рад вам, господин Исмаил, расскажите о тех местах, откуда приехали!
— О Тегеране что сказать? Нет у нас новостей.
— Ну, как бы то ни было, это — столица уважаемого государства шах-ин-шаха; там есть район Шахйад, подобный волшебному фонарю, и много всего другого!
— Значит, вы сами это видели?
— Нет, никогда не был в Тегеране, здесь я учился, в армии служил в Керманшахе, а сейчас учительствую в Мешкиншехре.
— Почему же не съездите, раз вы считаете, что Тегеран напоминает волшебный фонарь?
— Это выше моих сил. Боюсь заплутаться. Духу не хватает. Мой чертов язык все еще плохо разговаривает на фарси. Как ни стараюсь говорить по-человечески, не ворочается, да и все тут. И высшее образование проку не дало, чисто говорить так и не выучился. На фарси говорю в турецкой манере, на турецком — в персидской. Одним словом, ни то, ни се. Мне еще повезло — благодарение Богу, получил должность учителя в дальнем селении, в окрестностях Мешкиншехра, в горах Сиблана.
— У меня тоже бабушка живет в тех краях.
— Вот как? Места хорошие.
— Вы там один живете?
— Как на это ответить? И один, и не один. По виду я один живу. В съемной комнате. Но одиноким себя никогда не чувствую. Я очень крепко дружу сам с собой, никогда сам себе не надоедаю, целые дни, недели, годы сам с собой провожу, и не наскучиваю себе, не приедаюсь. Даже когда душа раздвоится в споре сама с собой, у этих раздвоившихся есть один общий друг. Это тар[36] мой, я его берегу, он дорог мне. Потихоньку, не торопясь, наигрываю.
— Иными словами, друзей и знакомых у вас нет?
— Почему же, дорогой мой? Есть. Все люди — мои знакомые. Жилище мое — наподобие хосейние[37]: люди приходят, уходят. Со всякими делами ко мне идут: от уроков и занятий с детьми до семейных споров и даже племенных. Получился я: Аму-оглы для народа!
Камель спросил:
— Кстати, Маш Аму-оглы, тяжба между Латифом и Сарханом чем закончилась?
Маш Аму-оглы начал объяснять, но Исмаил в тонкости этого дела не вслушивался. Его очаровала сама жизнь Аму-оглы, жизнь завидная и редкая, недостижимая для него. А как бы хотелось ему быть таким же: деревня на склонах Сиблана, учительство, тишина, покой!..
— Эй, о чем задумался, молодой человек? Замечтался, что ли? Возьми и нас в свою мечту, хоть на полминутки, — сказал ему, посмеиваясь, Аму-оглы. Исмаил встряхнулся.
— Я представил себе вашу жизнь в деревне. Как хотелось бы мне жить в таких же условиях.
— А в Тегеране что делаешь? Извини, что любопытствую!
— Пожалуйста, Маш Аму-оглы. Работаю кассиром в банке. С утра до вечера занят счетами клиентов, а свои собственные счета поверить — руки не доходят.
— Ну, если человек захочет, он до себя доберется. Если захочет.
Исмаил опустил голову. Маш Аму-оглы чуть помедлил, потом, обращаясь к Камелю, сказал:
— Как твои дела, Камель, все несешь, как крест, знамя серпа и молота? Все хочешь отдать свою жизнь за свободу народа?
— А разве есть другой путь, Маш Аму-оглы? Если есть, укажи его!
— Не знаю я, есть другой путь или нет, однако уверен я в том, что твой путь — не единственный!
— Как же, не единственный?
— А так, что бездорожье вы себе выбрали главным путем. Те, кто идут по нему, либо в Сибири оказываются, в трудовых лагерях, либо такие надругательства, издевательства, такое безбожие терпят, что удел большинства — болезни и смерть. А кто не умрет — становится ходячим мертвецом, ничего в нем не остается.
— На каком же основании вы это говорите, Аму-оглы?
— Во-первых, я это слышал, от живых свидетелей слышал, во-вторых, читал. Но главное, я своим разумом руководствуюсь. Лекарство от нашей болезни не даст нам ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев — мы, брат мой, сами должны думать, каким лекарством себя вылечить!
— Где же взять его — в ржавых коробочках наших аптекарей? Или в сундуках наших бабушек? Где? Больной-то ведь умирает. Трупный запах его уже повсюду слышен, до каких же пор будем сидеть, сложа руки, и наблюдать?
— Должен прийти мудрец, Камель, понимаешь? Эта работа по силам мудрецу, совершенному мудрецу, и только ему!