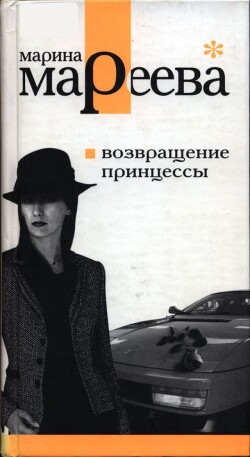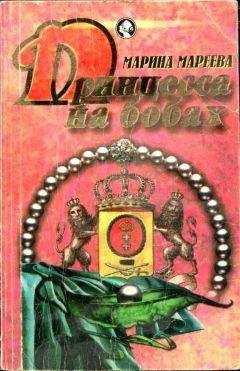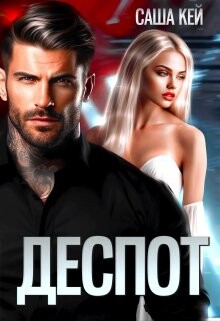Наследницы - Мареева Марина Евгеньевна
Их было двенадцать, включая Наталию Георгиевну, — пять мужчин, остальные женщины. «Очень хорошо, буду тринадцатой», — обрадовалась Дарья. Это было ее счастливое число. Среднестатистический возраст коллег она определила в районе тридцати пяти лет. Исключение составлял Леша. На вид ему было за пятьдесят. Красивый, высокого роста, что особенно восхитило Дарью при ее метре с кепкой. Улыбка приятная, даже завораживающая.
Увидев новенькую, Леша возликовал. Потирая руки, он предвкушал, как сейчас удивит эту юную леди своим высокохудожественным рассказом. Наталия Георгиевна не стала испытывать его терпение, затягивая начало шоу. Она видела его не раз: «Пусть порезвится и ребят развлечет, а то сидит сутками напролет». Главная уважала Лешу, ценила его как специалиста. Пожелав подчиненным всего хорошего, Наталия Георгиевна ушла к себе в кабинет. Представление началось.
Кошатник со стажем в буквальном смысле скакнул к Дарье. Та рассмеялась, уж больно в этот момент он был похож на кенгуру.
— Юная барышня, не утруждайте себя лишними вопросами, — начал он куртуазно, — я весь в вашем распоряжении. Велите начать с главного?
Дарья кивнула.
— Извольте, разлюбезнейшая вы моя. — И Лешу понесло: — В один прекрасный солнечный день, пребывая в состоянии, близком к нирване, я стукнул себя вот по этому самому месту, — он интимно подмигнул Дарье и показал на голову, — включил правое полушарие и воскликнул: «Мяу, хорошисты!». Коллеги, — Леша поочередно заглянул в глаза каждому, — я ничего не напутал?
Коллеги улыбались. Им явно доставляло удовольствие наблюдать за ним. Дарья со смешанным чувством тревоги и легкого испуга (уж не сумасшедший ли он?) следила за Лешиными перемещениями. Взрослый дядечка, который годился ей в отцы, смешно вскакивал на стул, крутил его как волчок, теребил тонкими пальцами патлатую голову. Он даже вспотел.
— Итак, я сказал: «Мяу, хорошисты!» — и открыл им глаза на ситуацию, особенность которой заключалась в том, что у каждого из нас дома есть собака или кошка. И тогда я выступил с предложением. — Леша вскочил на стул и по-ленински, одной рукой ухватившись за лацкан пиджака, выбросил вперед другую. — Я предложил коллегам сделать фотки братьев наших меньших и украсить ими наш зверинец. Согласитесь, любезнейшая, — он испытующе посмотрел на Дарью, — прехорошая идейка! Народ сразу заценил. И уже через неделю мы имели одиннадцать портретов, от каждого по портретику. Но я пошел дальше, — Леша соскочил со стула и забегал по комнате семимильными шагами, — предложил обязать наших клиентов, прошу прощения, нехорошо сказал, предложил просить самым любезнейшим образом наших клиентов приносить портреты своих четвероногих. В результате через полгода их у нас было уже пятьдесят три штучки. А сейчас, полюбуйтесь, — он умильно посмотрел на стену с фотографиями, его лицо светилось радостью, — за сто перевалило. Прехорошая экспозиция, не находите? Но и это еще не все, — он многозначительно поднял палец вверх, — я предложил принимать в коллектив лишь тех, у кого есть животные Наталия Георгиевна поддержала меня, и, заметьте, пока все складывается по задуманному. Теперь и вы с нами Стало быть, у вас… — Леша вопросительно посмотрел на Дарью.
— У меня кот. Семен Семеныч.
— Из благородных али как?
— На улице подобрала. Три года назад.
— Хорошая девочка, — Леша по-отечески погладил ее по голове, — милости просим в наш зверинец.
— Спасибо. А хотите, и я вам сообщу нечто любопытное? — Стеснение, которое вначале сковывало Дарью, вдруг куда-то улетучилось. Ей стало уютно в обществе этих людей. — Наталия Георгиевна не назвала вам мою фамилию. Думаю, она сделала это сознательно.
— А у нас не принято фамильничать.
— Дело не в этом, а в том, что моя фамилия… — она сделала паузу, — моя фамилия Зверева.
— Нет, Дарья Зверева, ты не просто хорошая, ты очень хорошая девочка. Тем более милости просим в наш зверинец! — Леша театрально раскланялся.
Раздались дружные аплодисменты. Спектакль закончился, публика была в восторге.
Саша была в разводе десять лет. Кроткая и с виду покорная всему, в самые решительные моменты она могла собраться и тогда действовала четко, без сантиментов. Она любила своего мужа, безвольного, слабодушного, завистливого человека. Любила таким, каким он был на самом деле. Ей казалось странным, когда женщины, рассказывая о своих мужьях, делали удивленные глаза и возмущались: «Нет, ты представь, Сашуль, мы женаты пятнадцать лет, я знаю его как облупленного — и вдруг такое выкинуть. Уму непостижимо!»
Нет, это был не ее случай. Она никогда не верила в то, что любовь слепа. Саше она всегда представлялась зрячей. Так и жила. Если б кто-то сказал, что ее муж способен на подлость, она не удивилась бы и не возмутилась. И это она про него знала. Но одно дело знать, другое — с этим столкнуться. Бог не уберег. Кто-то из «доброжелателей» донес, что видел, как Сашин муж приходил к ее отцу просить деньги на содержание сына. Любовь как отрезало. Объясняться с мужем Саша не стала. Она придерживалась правила: если надо объяснять, объяснять не надо. И хотя изредка делала исключения, для подлости — а именно так она расценила поступок мужа — исключений быть не могло.
Как нередко бывает, стоит только начать — и пошло-поехало. Следом за одной подлостью явилась другая. Их большую квартиру в добротном доме на Остоженке бывший муж быстро разменял на комнату в коммуналке в центре Москвы для себя и крохотную двухкомнатную квартиру в очаковской тьмутаракани. В полной мере размах его подлости обнаружился меньше чем через год. Дом, куда переехал бывший, приглядела одна крутая фирма и купила его. Жильцов коммуналок расселили по отдельным квартирам. Стало ясно, почему бывший муж выбрал именно этот вариант и так торопил Сашу с переездом. Он-то знал о намерении фирмы прибрать дом к рукам — об этом ему рассказал приятель, который там работал. За все эти годы папаша видел сына два-три раза. О том, чтобы он прописал мальчика к себе, не могло быть и речи. К тому же бывший не долго грустил и обзавелся новой семьей. Переехав в очаковские «хоромы», Саша сделала небольшой косметический ремонт. Тем и ограничились.
Галина Васильевна полулежала на кровати в комнате внука. На столике у изголовья лежали таблетки, пахло корвалолом. Она разглядывала потолок: «Побелить бы. И обои хорошо бы переклеить, — она провела рукой по стене, — тоскливые какие-то, выцвели совсем».
— Бабулик, — в комнату заглянул Андрей, — ну как ты тут, не передумала еще вслед за дедуликом коньки отбросить?
— Как ты смеешь так с бабушкой разговаривать?! — с возмущением крикнула из кухни Саша.
— Еще как смею! — огрызнулся сын. — А чего так убиваться-то?
— Андрей, оставь бабушку в покое, иди мой руки и за стол. — Она вышла из кухни, неся тарелку с дымящейся отварной картошкой. — Мама, пойдем, я уже все приготовила.
— Сашенька, — Галина Васильевна с трудом поднялась с кровати. На глаза навернулись слезы.
— Мама, прошу тебя, только не начинай.
— Я не об этом.
— Тогда что? Опять сердце?
— Слава богу, отпустило.
— Ну и пойдем. Картошка стынет.
— Сашенька, понимаешь, — мать извлекла из-под кровати рулон ватмана, — тут чертежи… я зашиваюсь…
— И что, плакать из-за этого? Какой пример ты Андрею подаешь?
— Ты не понимаешь, если я не сдам их послезавтра, меня не возьмут на это место.
— Тебе работы мало? Извоз, Арбат…
— Так мы бы от извоза отказались. Жалко ведь, если не возьмут, — Галина Васильевна обреченно опустила голову, — я это место полгода ждала.
— Мама, — Саша перешла на шепот, — давай потом поговорим. Не надо, чтобы Андрей слышал. Пойдем потихоньку, — она взяла мать под руку и, обращаясь к сыну, укоризненно воскликнула: — Андрей, почему ты еще не за столом?!
Андрей стоял у вешалки и шарил по полке в поисках шапки. Всем своим видом он показывал, что: а) его не поняли; б) смертельно оскорбили.
— Сынок, ты куда?