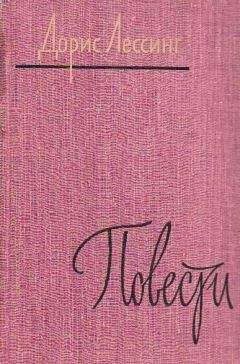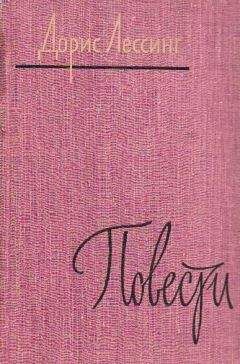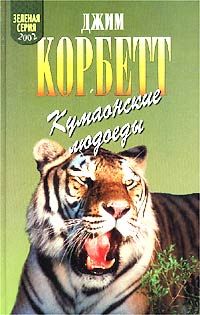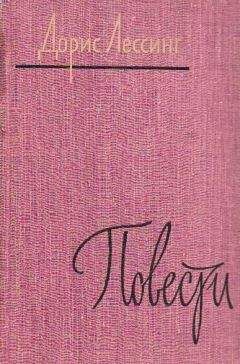Александр Торин - Лепестки Граната
Опять стучат в дверь. Как они мне надоели.
— Иду, иду….
— Здравствуй, Володя.
Господи, пусть разверзнутся недра земные, и ветры черные сгустятся над нами, я не могу. Дрожь охватывает конечности мои, я не принадлежу себе более, это стыдно и недостойно, но ничего не осталось у меня, кроме постыдной страсти к этой женщине.
— Леночка. Ты получила письмо? Ты все-таки пришла.
— А вы, Володя, однако… Забыли что ли где и когда живете, Владимир Николаевич?
— Не забыл.
— А зачем так рискуете? Муж мой, знаете ли…
— Знаю, Леночка, все знаю.
— Так зачем же все это? Я давно уже другая, забудьте прошлое.
— Леночка, я люблю тебя, я всегда тебя любил.
— Володя, что ты делаешь?
Я вдыхаю запах ее волос и начинаю целовать, вначале она отталкивает меня, но дыхание ее становится прерывистым.
— Господи, как же я по тебе соскучился. Помнишь, как ты убежала от отца и мы гуляли в парке? Я тогда в первый раз тебя поцеловал..
— Молчи. Я тебя ненавижу, глупый!
Это легкий, греховный туман, застилающий глаза. И все, и будь что будет, и ничего больше не надо, и пусть завтра смерть, я уже не боюсь. Лена, Леночка, единственная моя, любовь моя.
…
Странное чувство — боль, смешанная с опустошением. На губах у нее горькая складка, время от времени она поджимает их, словно мысленно разговаривает сама с собой.
— Мне пора, Володя.
— Одно только объясни мне: что с тобой?
— Ты о чем?
— Ты знаешь. Эта кожанка, этот платок, этот муж. Как ты могла? Как ты можешь?
— Вы слишком много себе позволяете, Владимир Николаевич.
— Не смей предавать душу! Ведь у тебя же есть душа, я знаю. Или лучше знаешь что, если боишься — иди, Лена, донеси на меня. Клянусь тебе, я не против.
— У меня своя жизнь. Я сделала свой выбор и о нем не жалею.
Когда видишь, как на лице у любимой женщины, встающей с постели появляется маска отчуждения, то понимаешь, что любовь — это просто боль, ревность и вакуум души.
— Я больше не приду, Володя. И запомни, навсегда запомни: ничего не было. Не пиши мне, не приходи больше. Мы незнакомы, слышишь? Иначе ты попадешь в расстрельные списки и никто не сможет тебе помочь.
— Лена. Приди еще хотя бы один раз, я умоляю тебя.
— Нет, я и так всем рискую. Сумасшествие какое-то. Прощай.
Ууу. Ууу, вою и корчусь как раненый волк. И так до судорог. О, Боги. Нет вас на этой земле, нет.
9.Тянулись дни мои, тянулись, все глубже погружался я в бездну. И вот, представьте себе, да такое и представить невозможно. Посреди всего этого кошмара, грязи, голода и смертей вдруг возникает ангел.
В каждом, самом захолустном и грязном городке России даже в самые страшные времена отечественной истории обязательно найдется какая-нибудь дама преклонных лет, будь она монархисткой или попросту старой девой, средних лет, вспоминающая первый и единственный поцелуй с заезжим офицериком. Так вот, эта дама устроит литературные чтения, будет восхвалять Александра Сергеевича и Михаила Юрьевича, пройдется по новомодным течениям в литературе и непременно пригласит множество юных особей женского пола. Откуда они только берутся, эти провинциальные девочки с бледными личиками и прыщиками на лбу, чахоточные мотыльки смутного времени.
И отказать-то я в посещении почему-то не смог.
Она стояла у стены. Внешне она была не столь привлекательна, но внутренней чистотой сияло от нее и глаза ее светились.
У меня перехватило дыхание и сразу же стало неловко за потертый костюм и рубашку с нитками, торчащими из обтрепавшихся рукавов.
Она увидела мое смущение и улыбнулась.
В тот момент я понял, что должен, просто обязан заговорить с ней.
— Откуда вы здесь? — спросил я, задыхаясь.
— Мы уже три года, как живем у двоюродной сестры мамы. А я вас знаю, Владимир Николаевич, — улыбнулась она. — Мама у вас в прошлом году лечилась, я даже в больницу несколько раз приходила, не помните?
Она звалась Татьяной. Нет, ей-богу, девушка эта была святой. Мы крепко подружились. Она приносила мне книги, убиралась в комнате, даже готовила обед, когда было из чего. И мы разговаривали, разговаривали подолгу, она освещала мое бытие, вернула мне ощущение жизни, рассудка, смысла, давно утерянного и забытого. Я даже почти прекратил вкалывать себе морфий, только изредка, когда ночами совсем становилось невозможно дышать.
Я о многом ей рассказал: о семье, о Сергее и даже о Лене, хотя и несколько опасался последствий.
Однажды в начале апреля мы сидели вечером в моей облагороженной обители и пили чай.
— Владимир Николаевич, я хочу, чтобы вы знали, как я к Вам отношусь. Вы умница, тонкий и образованный человек, вы губите себя.
— Танечка, милая, спасибо Вам. Но право, не жалейте меня, жизнь моя закончилась несколько лет назад, Вам это вряд ли удастся понять.
— Мне больно видеть, как вы уничтожаете себя из-за этой женщины… Забудьте ее, время все стирает.
— Ах, Танечка. Вы не знаете, что такое любовь, что такое страсть. К счастью. Желаю вам, чтобы в судьбе вашей не было такого. От всей души желаю.
— Почему вы думаете, собственно, что я не знаю ничего про любовь?
— Вы еще слишком молоды. И знаете, я открою вам секрет, который не знает еще не одна живая душа: я пристрастился к морфию, только он один и дает мне успокоение. Каждый раз ругаю себя, рискую. Вот, посмотрите — я показал ей мерзкие следы от уколов.
— Боже. Боже, что вы делаете! Это все из-за нее, — содрогнулась Таня. Почему, почему жизнь так мерзка? — Она зарыдала.
— На то она и жизнь, — я обнял ее худые плечики и с тоской подумал, что единственное, чего мне пока не хватало — утешать детей.
— Вы поделились со мной своей тайной, давайте и я поделюсь. Я люблю Вас.
— Что вы сказали, Танечка? — обомлел я.
— Да, да, я люблю Вас, Владимир Николаевич. Люблю, несмотря ни на что, я люблю вас всей душой, всем сердцем. Я на все ради вас готова, я готова принять страдания, душевные и физические, я…
— Остановитесь, милая. Да Господь с Вами! Я старше вас на почти на двадцать лет, — мне стало неловко. — Это пройдет, Танечка, пройдет. Вам нужно меньше читать литературы и больше думать о будущем, вы кого-нибудь встретите..
— Скажите, вы меня совсем-совсем, ну ни капельки не любите? Я некрасивая, да? Скажите только честно, я все выдержу, я клянусь!
— Танечка, ну что вы, право. Вы прелесть, у вас красивые глаза, нежные губы. Когда я в первый раз увидел вас, у меня дрогнуло сердце. Вы прекрасны. Берегите себя, в вас обязательно влюбится прекрасный молодой человек.
— Вы врете! Я вам противна!
— Ну что вы, Танечка. Господи, милая, вы же совсем ребенок, — я поцеловал ее в щечку, прижал губами мокрые веки и крепко обнял. — Милая, хорошая, замечательная девочка, дорогая моя. Вы видите, я падаю вниз, и чем дальше, тем стремительней, как бы это сказать, мой цикл жизни на исходе, мое время прошло, хотя я еще относительно молод. Все дело в душевной усталости, а душа у меня уже изношена, как у старика.
— Вы не должны, Володя. Вы не смеете!
Она начала целовать меня, вначале робко, в щеку, потом в губы, и мне было неловко за крепкий аромат табака изо рта, но уже горячее женское дыхание начало одурманивать мозг. Рассудком я понимал, что не должен, не имею права, но с каждым вздохом и поцелуем Танечки рассудка этого оставалось все меньше. А когда она со стоном спустила с плеч вытертого платьице, его совсем не осталось.
После меня била нервная дрожь и ощущение того, что совершил подлость. Танечка свернулась калачиком под одеялом, я оставил ее и выбежал из дома. В больницу я не пошел, я помчался разыскивать Лену. К несчастью, разыскать ее оказалось просто: она была на службе.
10.Внезапное появление Владимира Николаевича и его страстные объяснения на глазах у сослуживцев Лену перепугали. В ту ночь муж ее был в отъезде, и она написала анонимное письмо:
«Как пациентка областной больницы и сочувствующая делу пролетарской революции заявляю, что доктор Щукин по сути тайный белогвардеец, сын царского офицера и тайный противник власти Советов. О чем неоднократно высказывался на визитах в городскую больницу, подрывая основы нарождающейся жизни и народного счастья и открыто призывая к контрреволюции»
Письмо она положила в ящик стола, пошла пить чай, и с удивлением обнаружила нервную экзему на руках, ближе к запястью. Что-то смутное крутилось в сознании, пробивалось наружу… Были там Володя, отец, детство, женщины в длинных платьях.
— Нет, не могу, — сказала себе Лена. Хотела порвать конверт, но передумала и пошла спать.
Утром она отправила письмо собственному мужу.
Владимира Николаевича тут же взяли. Его допрашивали, но почему-то отпустили. Возможно, потому что врачей в округе найти было невозможно, а партийное начальство время от времени болело, несмотря на железную революционную волю. А может быть надеялись выследить несуществующую контрреволюционную организацию.