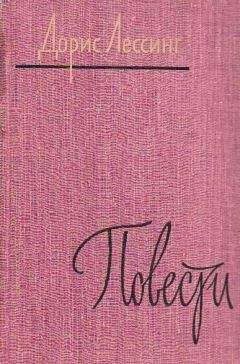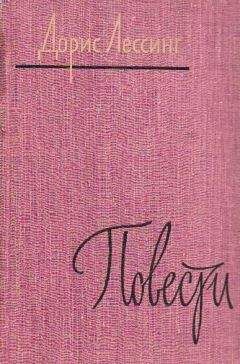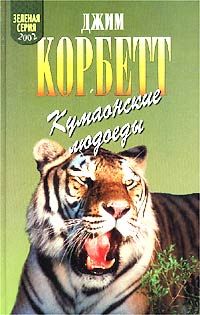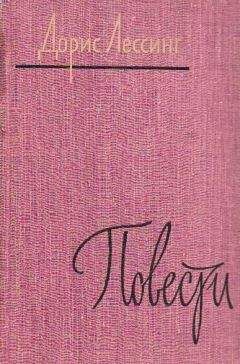Александр Торин - Лепестки Граната
Господи, какой день. Болячки человеческие накапливаются и прорываются гноем. Леночка, почему ты ходишь в этой кожаной гадости с платком на голове и выступаешь на собраниях? Лена, что с тобой. Только не говори, что ты приняла историческую необходимость, или что-то там еще из их убого лексикона. Неужели ты восхищаешься мужеством этих убийц? Прости меня, но неужели ты спишь с этим животным? Лена. Только не это. Умоляю тебя, даже если ты с ним близка, скажи, что это не так.
Вот, пожалуйста, прочти письмо, которое я написал пару недель назад.
«Я стараюсь о тебе не думать, потому что боюсь. Да, трушу, стыжусь самого себя, корю совесть. Да и неловко в моем положении столь страстно желать чужую жену. И боюсь разговаривать с тобой. И отгоняю от себя эти мысли, и только ночью мечтаю и вспоминаю, и еще раз, и еще.
Я вспоминаю твое тело, твое лицо, твою грудь, и наши полудетские поцелую и объятия, которыми наградил нас Господь. И ночами приходишь ты в мои сны, бесстыжая и нагая, светлая и любимая. Почему не соединились наши судьбы давным-давно? И почему люди обречены на поиск своих спутников, молекул, духовных единиц, без которых жизнь подобна казни, и почему они их не находят, или находят тогда, когда менять жизнь уже поздно. И когда остается лишь мечтать о близости, средней между духовной и физической, впрочем не имеющей особого смысла. Но все же желанной, ударяющей сознание, убивающей рассудок.
Стоит только подумать о тебе, и я не могу дышать. И за что, и зачем. И какая ерунда, вроде бы уже не восемнадцать мне лет. Резонанс. Странный, затягивающий и необъяснимый. Я хочу тебя. Хочу со всей страстной силой, понимая при этом всю низменность своих помыслов. Это на уровне инстинкта, я хочу обладать тобой, и умереть после, пусть хоть на позорном столбе.
Вот ведь какая магия, черт бы ее побрал. Я хочу слиться с тобой, не отпускать тебя ни на секунду, и, извини за откровенность, находиться в вечном греховном слиянии.
Меня убьют где-нибудь или расстреляют, да и мужа твоего скорее всего тоже. Ты поплачешь и выйдешь замуж за очередного хозяина жизни, кем бы он ни был. Но я все равно буду прилетать к тебе ночами, оттуда, из небесных сфер, и заставлять тебя изменять своему супругу, я буду шептать тебе на ухо нежные слова любви.
Может быть ты мирно доживешь до старости, может быть уничтожат и тебя — они не знают пощады. Встретимся на небесах или в будущей жизни.
Если ты все-таки захочешь увидеть меня, умоляю, дай знать. Я люблю тебя. При мысли о том, что этот плохо выбритый и туповатый монстр целует тебя, я схожу с ума. При мысли о том, что это происходит здесь, рядом, на соседней грязной улице, я корчусь ночами и кусаю губы.
Только не молчи, только скажи что-нибудь. Что через неделю, месяц, полгода ты улизнешь и будешь со мной, часа два, а лучше целую ночь. Если это случится — я готов умереть. Помнишь еще легенду про царицу Тамару?
Леночка. Я безумен, понимаю, готов согласиться, но люблю. А это сродни морфину. А возможно, и хуже…»
Сжечь, сжечь. Или все-таки послать? Не дай Бог увидит ее большевистский супруг, завтра же меня заберут и расстреляют в том самом овражке. Ну и черт с ними, жить мне все равно не зачем.
Нет, решено, передам. Пусть прочтет, если хоть что-то вздрогнет на миг в ее душе, это стоит жизни. А ведь, черт возьми, какая славная пустота, дьявольский огонь и нега внутри!
7.Пить с утра перед операцией — значит пасть окончательно и бесповоротно. Хирургия не терпит запоев. К тому же, водка препаршивейшая, как врач говорю. От такой запросто можно отдать концы и обратиться душой к всевышнему. Может быть, это и к лучшему. По крайней мере, я забуду о Лене и Сергее.
Недостойно. Тут мир рушится, а я все… И о смерти. Чего вообще стоят усилия цивилизации и культуры? Чуть копни, чуть потревожь эту черную магму, неслышно потрескивающую под благополучной на вид оболочкой — улицами, храмами, трактирами и доходными домами, как первобытная ненависть вырывается наружу и крушит все, к чему прикоснется. Насилуют своих же, пролетарски сознательных баб, сжигают картины великих мастеров и бесценные книги, уничтожают знание законов природы, подменяя их бездумным рассуждением о превосходстве классового разума. Если бы я был философом, то утешился бы общими рассуждениями, мол, пройдет десяток-другой лет, страсти улягутся, жизнь возьмет свое, кесарю — кесарево. Нет, я не философ. Я видел трупы на обочине разбитой дороги. Настоящие трупы, человечьи, в снегу, в шинелях, с криком на замерзшем лице.
В детстве я однажды раздавил лягушонка. Черт его знает, почему — из инстинкта охотника. Он прыгал, пытался спастись, черненький, склизкий, а я, в ярких штанишках и новых сандаликах, в азарте пытался его догнать.
— Володя, — кричала мама. — Володя, не смей.
Но было поздно, кожаный сандалик с детским носком настиг черное тельце и превратил творение Божие в мутную горку склизи.
— Что ты наделал? За что ты убил его? — Рассердилась мама. — Ведь он бежал к своей маме-лягушке, он не сделал тебе ничего плохого.
Господи, как стыдно мне стало, как я рыдал, и пытался оживить его, и вспоминал, как лягушонок в отчаянии уворачивался от моих ножек. Боль в сердце жива до сих пор. Больно, больно, слишком чувствительными воспитали нас, оттого и все беды нашей родины. С варварами надо разговаривать языком силы, крови. А мы не можем, мы классиков начитались. А они, которые плоть от плоти, их не читали, потому новорожденного племянника моего в пьяном угаре схватили за ножки и головкой об стенку. Говорят, сестренка после этого полгода не разговаривала. Как-то там она теперь? Стыдно, уже месяц не писал, да и на последнее письмо ответил что-то бессвязное. Господи, помоги ей в жизни, ты же помогаешь страждущим и несчастным в страшные времена, иначе бы тебя не было.
Стучат в дверь. Кого несет в этот час?
— Товарищ Щукин, срочно надлежит сдать план коммунистических обязательств нашей больницы! За вами послали, опаздываем.
Ааа…. Слава Богу. Это Лупников, бывший санитар-недоучка. Рыжеволосый гигант с гниловатыми зубами. Хозяин новой жизни, секретарь организации красных и пролетарских санитаров.
— Завтра, милейший, завтра, я что-то приболел.
— Ага, — Лупников хитро скалится. — Я тоже так болеть люблю.
— Держи стакан, товарищ Лупников, — вздыхаю я. — И пей залпом за общее дело пролетариата, как полагается.
— Это завсегда можно, — соглашается секретарь. Но чтобы план, доктор, завтра был представлен. Дело ответственное.
— Да, и еще, Лупников, поскольку у меня жар, оперировать сегодня не смогу. Там как, критические случаи есть?
— Мужик какой-то с грыжей. Матерится ну точно, как вы. Пара горожан и солдат. Чирий у него на ноге, грязь занес.
— Товарищ Лупников, — на лице у меня появляется маска ответственности. — Мы, работники новой, социалистической медицины, должны помогать пролетариям, ожидающим медицинской помощи от государства рабочего класса. Так?
— А что вы имеете в виду, доктор?
На губе у него мелкие капельки пота, на лбу тоже — верный признак напряженной умственной деятельности.
— Я, Лупников, давно осознал ошибки и накипь происхождения. Мы должны лечить пролетариат несмотря на. На то он и победивший класс, который стремится освободить все прогрессивное человечество. Как говорил (я запнулся) — великий вождь мирового пролетариата — классовая солидарность всех трудящихся. Ну, где там этот больной с грыжей? Переплывем Стикс, в конце концов!
— Да нет, доктор, — засуетился Лупников. — Плыть никуда не надо, здесь же пешком, что вы, ей Богу загадками какими-то говорите.
8.И ведь оперировал весь день, преодолевая тошноту и дрожь в пальцах. Может ли быть более чужеродное тело в этой больнице убогого города, разрушенного войной и ничтожеством власть держащих? Что я здесь делаю, почему застрял? Неужели мне доставляет удовольствие прозябать в своей каморке, а с утра месить сапогами грязь? Почему я не поехал домой, вслед за сестрой, ведь ей тяжело одной. Или это страсть к саморазрушению? Тайное желание смерти, столь близкой и доступной на войне, словно поманившей меня за собой.
Нет, по здравому рассуждению я не хочу умирать. Идея самоубийства всегда была мне чужда. Тем более, учитывая мою профессию.
Я просто кусочек невидимой ткани организма, оторванной от тела шрапнелью и выброшенной за окоп. В этом кусочке еще некоторое время пульсирует кровь, происходят обменные процессы, но без материнского тела, сердца и системы сосудов существование его обречено. Кровь сворачивается, остывает, запекается. Скорей бы уже…
Опять стучат в дверь. Как они мне надоели.
— Иду, иду….
— Здравствуй, Володя.
Господи, пусть разверзнутся недра земные, и ветры черные сгустятся над нами, я не могу. Дрожь охватывает конечности мои, я не принадлежу себе более, это стыдно и недостойно, но ничего не осталось у меня, кроме постыдной страсти к этой женщине.