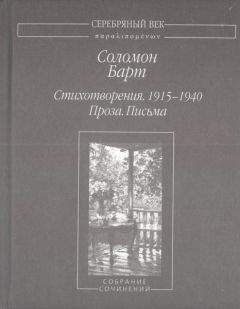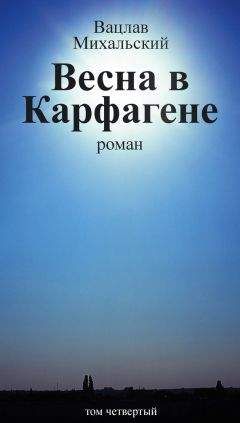Эва Курылюк - Эротоэнциклопедия
Наибольшую радость доставляет мне перелистывание твоих тетрадей. Я бесконечно благодарен тебе, cheri, что ты не утаил от меня своих размышлений на столь многие важные для нас обоих темы. Твои слова я читаю вслух, заучиваю на память; твоим почерком могу любоваться часами. Я узнал, что ты перестал вести дневник задолго до своего исчезновения или же забрал с собой последнюю тетрадку. Я даже заподозрил, что произошло нечто, о чем я не знаю, и пытаюсь смириться с мыслью, что ты предпочел расстаться, нежели допустить меня к себе в душу. Ты перестал мне доверять? Хотелось бы верить, что нет; может, у тебя просто были причины о чем-то умолчать. Я ведь тоже не все тебе рассказал.
Например, я утаил специфическое непостоянство своей натуры, из-за которого легко впадал в «состояние влюбленности». Это позволило мне на собственной шкуре испытать, а с возрастом постепенно обобщить диапазон противоречивых чувств, характерных для «влюбленного». Однако твое исчезновение заставило меня понять, что до знакомства с тобой я лишь скользил по поверхности, не осознавая бездны, в которую способна низвергнуть человека утрата возлюбленного. Метафора «бездны», впрочем, не передает сути моего состояния.
Помню свои юношеские прогулки по горам — я вынужден был от них отказаться, поскольку ослабленные туберкулезом легкие не могли приспособиться к разреженному воздуху и на высоте более трех тысяч метров я начинал задыхаться. Представь, с той поры, как ты меня бросил, я вижу горы во сне. Мне снятся карательные экспедиции в страну вечных снегов; пропасти, на краю которых у меня перехватывает дыхание; ледяные взгляды горных коз, наблюдающих за мной из-за скалы.
Поэтому я избегаю сна. Не ложусь в постель, а по ночам предаюсь воспоминаниям. Блуждание по закоулкам памяти доставляло мне невыразимое удовольствие с детских лет, теперь же оно стало моим спасением. Вызвать твой образ мне удается только в полном одиночестве. Так что я симулирую мигрень и отменяю все визиты, даже ближайших друзей. Я бы предпочел полностью погрузиться в наше общее прошлое. К сожалению, отвлекают навязчивые идеи: меня неодолимо влечет к входной двери, у которой я бы охотно дневал и ночевал, подобно нашему спаниелю Заза (помнишь? — тебе рассказывала о нем maman),[9] целый год ждавшему папиного возвращения; в то же время меня влечет к окну, из которого видна автобусная остановка; не могу не прислушиваться — вдруг лифт откроется на нашем этаже…
Эдмон, cheri! Это ведь не конец, правда? Все образуется. У молодости свои права. Ты погуляешь и вернешься. Твой старый Роло наберется терпения, будет черпать утешение в работе, хоть и идет она через пень-колоду. Ты стоишь у меня перед глазами день и ночь, а я все припоминаю проведенные вместе мгновения и просиживаю за столом совершенно впустую, покрывая каракулями страницу за страницей. И все же мой сборник афоризмов о любви, заказанный Соллерсом (вряд ли ты помнишь) в прошлом году, потихоньку продвигается вперед.
Эта работа радовала меня, но я постоянно ее откладывал. Предпочитал отправиться с тобой на прогулку или в кино. Только теперь я всерьез взялся задело. Знаешь, из чего рождается текст? Из посланий тебе, вернувшихся с пометкой «адресат неизвестен»; из обрывков непристойных писем, которые я отсылаю в экстазе, а получив, краснею от стыда. Книгу я озаглавлю «Фрагменты беседы о любви» и начну с фразы «Для разговора о любви характерно сегодня страшное одиночество».
Будь ты рядом, я бы никогда так не написал. «Сегодня» — это ты: Мой отсутствующий Эдмон, cheri!
Когда вернулось мое первое письмо к тебе, я думал, что сойду с ума. На животе у меня выскочили волдыри, трое суток я метался по квартире, раздирая кожу до крови. В конце концов позвонил Л. и попросил рецепт на снотворное. Должно быть, встревоженный моим голосом, он велел мне прийти немедленно и дал адрес нового кабинета — в том доме, где ты снимал chambre de bonne[10] и где мы познакомились.
Ты замечал, Эдмон, какими суеверными делает нас любовь? Влюбленный возносит судьбе молитвы, полагается на Провидение, повсюду видит знаки. Адрес показался мне весточкой от тебя: я ощутил прилив надежды, которая позволила побороть икоту и унять дрожь в руках, а перед Л. притвориться, будто ничего страшного не происходит. Он без всяких церемоний выписал мне рецепт на валиум, который я сразу же и купил. Попросил у аптекаря стакан воды, а когда тот протянул руку за бутылкой «бадуа» — твоей любимой — чуть не кинулся ему на шею.
На улице Дебюсси мне тут же привиделась твоя фигура. Я кинулся вдогонку светлокудрому верзиле и чуть не налетел на него, когда тот остановился перед книжным магазином. Там мой взгляд обнаружил очередной знак: в витрине стоял альбом Вероккьо, открытый на Нашей Картине.
Я гадаю, cheri, запомнил ли ты нашу первую встречу столь же подробно, как я. Пожалуй, вряд ли. Ведь наши роли не были равноправны. Тебе открыл дверь человек средних лет, ничем не примечательной наружности. Передо мной предстал мальчик неземной красоты. Ты зашел в тот день, когда я заканчивал эссе об «ангельской красоте» на примере фигуры ангела, ведущего за руку Товию, с картины Вероккьо.
Ты был потрясающе похож на этого ангела, словно спорхнул с полотна. Даже одет почти так же: шелковая блуза, вышитая золотистыми хризантемами, и темно-синяя накидка, стянутая в талии полотняным пояском. От восхищения у меня вырвалось: не итальянец ли ты, не из Флоренции ли, случайно? В ответ ты улыбнулся этой своей удивительной улыбкой, приподнимающей только левый уголок рта, и сказал: «Нет, господин профессор, я с неба».
Прошлой ночью я сел за фортепиано, cheri, и стал играть подряд твои любимые вещи Баха, которые выучил наизусть во время первых общих каникул в нашем доме в Байонн, с maman. Она приняла тебя с распростертыми объятиями, а у меня отлегло от сердца, когда я увидел, с какой симпатией ты на нее смотришь. Вы полюбили друг друга с первого взгляда, оказались родственными душами. Ты даже не представляешь, как это меня обрадовало.
Я все играл и играл, прикрыв глаза, пока не погрузился в транс; и снова увидел вас — сидящими рядом на диване. От сладких фантазий меня оторвала метла, которой в два часа ночи застучала в стену мадам Б., наша ведьма. Я умолк, но продолжал пальцами ласкать клавиатуру. Она была гладкой и теплой, словно твоя кожа, и меня осенило. Я понял, что ты ускользнул из моей жизни на мгновение, чтобы я мог познать и выразить в слове беспредельность своей любви. Мне стало легче. Я заснул и проспал целый день, а вечером принялся вынимать из конвертов (среди которых не найдешь двух одинаковых!) письма от тебя.
«Уста запечатаны, но перо отваживается» (Абеляр). Представь, cheri, как ни странно, мне это удалось. В иных письмах к тебе я превзошел самого себя: отважился сказать то, что утаил от мира, от maman, от себя. Одного только я не предвидел — что письма вернутся и успех обернется поражением.
Любовное письмо — поистине стрела амура: она должна поразить адресата в самое сердце; должна выдавить из него капельку крови; окропить ею постель и упокоиться под подушкой, пожелтеть в томике стихов.
Любовное письмо — текст прикладной: атака на возлюбленного есть наиболее дешевая модель сантимента; зову отправителя не должно возвращаться в его руки. Перечитывать собственное письмо — оскорбление, жестокая шутка.
А между тем письма к тебе возвращаются с другого берега Атлантики. А я, словно охваченный манией саморазрушения, не могу удержаться, чтобы не читать их и не писать новые.
Любовные письма рождаются в состоянии невменяемости. Каждое слово видится чистой правдой, больше, чем правдой: оно кажется потом, спермой, кровью. Спустя несколько дней то же слово возвращается из-за океана — и предстает банальностью, китчем: назойливым хныканьем старика, возжелавшего эфеба.
Уже несколько раз я хотел разорвать письма и выбросить на помойку. От бумаги разит старой спермой, конверты воняют затхлым бельем, гнилью пахнут незабудки из Люксембургского сада. Нет, ни за что не отдам тебе карточек, салфеток, платочков, на которых я обнажался с унизительным пафосом. Я стыжусь самого себя: взъерошенного павиана с мордой, распухшей от слез, вновь и вновь отсылающего за море свой плач в расчете на твою жалость.
Убить павиана — предать себя: вот задача «Фрагментов речи влюбленного». Кромсая свои письма, я погружаюсь в «речь», «дискурс» — движение руки, бег букв, — и мне уже кажется, будто это я бегу к тебе, и ты больше меня не сторонишься. Нет! Ты тоже несешься ко мне. Самолет оторвался от взлетной полосы; стучат колеса метро. Вот-вот-вот. Вот ты выскакиваешь из вагона, вот уже мчишься по лестнице. Вот-вот-вот, через ступеньку, через две: у тебя такие длинные ноги. Вот поворачивается ключ. Вот открывается дверь. Вот-вот-вот. «Привет, Роло! Привет, mon vieux!».[11]