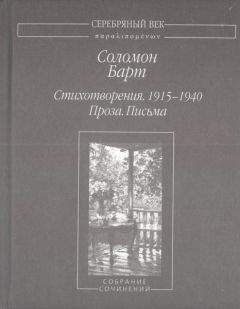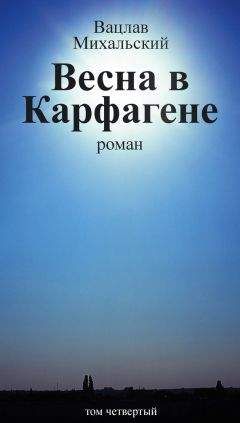Эва Курылюк - Эротоэнциклопедия
В последнее время сон о смирительной рубашке снится мне регулярно. А все потому, что на майской книжной ярмарке идиотку-синий-чулок посетила безумная идея — меньше чем за год создать трехтомную «Энциклопедию любви». И она немедленно подписала договор.
Прошло уже почти три месяца. Вчера была весна, ночью наступила осень. Галопом несутся минуты, у секунд вырастают крылья. Время — Пегас. Будильник тикает, словно барабан. Днем опускаются руки, ночью наваливается бессонница. Чуть задремлешь перед рассветом — и тут же просыпаешься в смирительной рубашке. Полчетвертого. Уже не уснуть.
Ну так встань! Свари кофе, включи свой «макинтош», примись задело. Может, еще успеешь?
Ага, как же! За три месяца я не нарыла ни одной мысли. В корзине на дне монитора покоится три тысячи колченогих фраз. Пока Провидение бдило, слепой курице перепадало зернышко. Теперь ей достается лишь точка без i. Бельмо морщит, будто простыня, манит фантомами. В глазу пасутся овцы. Хихикают на их белых спинках амурчики, натягивают тетиву, я целюсь в Эроса. И вот от него, как от шарика, осталась уже только малопристойная резинка. Больше идиотке — синий-чулок сказать о любви нечего.
Я отодвинула занавеску. Дождевые тучи дрейфовали над техникумом. Завтра — нет, уже сегодня утром — его начнут сносить. Здесь, под стеклянной крышей, в те времена еще целой, бездельники вроде меня устраивали салоны самых независимых — tres, tres independents.[1] Мазня их никого не прельщала — разве что терпеливые стены. Но и те исчезнут бесследно, вроде тебя, идиотка!
Предрассветный час — жуткая пора! Сквозь навсегда опустевшую (ключ давно потерян) замочную скважину просачивается в душу тревога.
Что это? Послышалось? Нет. Кто-то принялся насвистывать «К Элизе» — и кто-то засвистал в ответ: словно пароль и отзыв. По крыше техникума скользнул огонек, погас. Что-то зашуршало. Кто-то спрыгнул или упал на что-то мягкое. Я приоткрыла окно, спряталась за занавеской. Было ветрено. Я накинула на себя одеяло.
Без пяти четыре. Мелькнула тень? Привидение? Нет! За оградой, между домом напротив и задами техникума кто-то крался вдоль стены. Исчез. Из-за ограды высунулась рука, затем другая. На тротуар спрыгнул патлатый верзила: босой блондин в драном красном комбинезоне на голое тело. Огляделся. Из нагрудного кармана, из-под нашивки, издали напоминающей логотип «Пиццы-Хат», — выудил часы и приложил к уху. Я взглянула на свои: было ровно четыре.
Парень топтался на месте, переминался и жестикулировал, словно с кем-то разговаривал, но голоса я не слышала. Я смотрела на эту картинку, столь чужеродную для парижского пейзажа, не без умиления. В свое время мне часто встречался похожий оборванец на углу Бродвея и 110-й улицы, на которой я жила в Нью-Йорке. Он стоял в очереди за метадоном, что раздавали бесплатно в наркологическом центре. Тоже высокий и худой, только чернокожий. Летом ходил босиком, зимой — в опорках из газет.
Однажды морозным утром мы столкнулись у пиццерии. Переминаясь с ноги на ногу, парень пожирал глазами пиццу на витрине. Взглянул на меня умоляюще, я кивнула. Мы вошли внутрь, я положила на стойку доллар. Толстый итальянец в грязном фартуке сделал вид, что не замечает нас. «Будьте добры», — поторопила я. Он неохотно достал пиццу, но подогревать не стал. Парень швырнул холодный кусок ему в лицо. Сбежался народ, вмешался полицейский. А у меня перед глазами стоял брат: вечно голодный пациент психбольницы в Творках,[2] который повел бы себя точно так же.
С бульвара Монпарнас на нашу улицу въехал желтый автомобиль. Парень подобрался, сделал шаг вперед, напряг зрение. Старый «рено» повернул на бульвар Распай, скрылся. Босоногий присел на корточки, прислонился к ограде, поднес часы к уху. Было двадцать минут пятого.
В полпятого завыла сирена: по бульвару Распай промчалась полицейская машина с мигалкой. Парень воспринял это как сигнал к отступлению: ловко, точно обезьяна, вскарабкался на ограду. Голая спина была черной: грязь, а может, татуировка?
Во мне нарастала уверенность, что автомобиль еще появится. Не сводя глаз с улицы, я оделась.
В пятнадцать минут шестого к нашему дому подъехал желтый кабриолет. Из-под фиолетового берета водителя выбивались длинные темные волосы. Он не остановился. Только затормозил, бросил что-то на тротуар, за углом газанул. У ограды лежал небольшой сверток. Я не колебалась ни секунды. Босиком выскочила на пустую улицу, подняла серый конверт. Художники — сони, в доме еще никто не встал. На лестнице мне не встретилось ни души. Я тихонько закрыла за собой дверь. Легла и моментально уснула.
С постели меня поднял грохот. Фасад техникума продырявила бронированная гусеница с молотом. С крыши сыпалось стекло. Конец странной ночи? Нет, начало нового дня.
В сером конверте я обнаружила пачку маленьких пожелтевших конвертов, связанных выцветшей голубой бархоткой. Все они были адресованы Ролану Барту. Сверху лежало его собственное письмо.
Над Тур Монпарнас заходит солнце. Пригодилась моя слабость к рукописным текстам. Я разобралась с корреспонденцией еще до наступления сумерек. Теперь мне известно, что речь идет о международном труде, который должен был выйти под редакцией профессора Барта к его шестидесятипятилетию: 12 ноября 1980 года.
Заглядываю в «Словарь французских писателей» — и что же? Оказывается, Ролан Барт не дожил до юбилея. Попал под машину, переходя от Коллеж де Франс на другую сторону улицы дез Эколь. Его увезли в больницу, но «за жизнь он не боролся, возможно, из-за того, что был в трауре». Незадолго до несчастного случая Барт похоронил мать. И сам умер вскоре после нее — 26 марта 1980 года.
Кто положил письма в серый конверт? Где они оказались после смерти Барта? Кем были выброшены из желтого кабриолета? Кому предназначались?
Луна восходит. Молочный свет заливает железные крыши, вдаль убегает серебряная тропинка.
После омлета с зеленым луком и бокала бургундского меня посетила гениальная идея: расторгнуть договор на «Энциклопедию любви», а взамен предложить издательницам перевод этих писем.
Моя соседка, высохшая восточная старушка с по-детски живыми глазами, включила на полную громкость песни Шуберта, которые в моем детстве играла на рояле мама. Мы слушаем их вместе. Знакомая музыка выманивает из памяти прошлое.
Мне четырнадцать, я впервые в Париже. Тадеуш Бреза[3] повел меня в Галерею Ламбер на выставку Лебенштейна.[4] На острове Святого Людовика мы встретили человека средних лет с пожилой, очень похожей на него женщиной. Бреза представил меня. Я пожала руку профессору Барту и его маме. И моментально о них забыла.
На тридцатипятилетие подруга подарила мне «Фрагменты речи влюбленного», только что изданную книгу Барта, которая привела меня в восторг. Я вспомнила, что на мадам Барт было серое плиссированное платье и коралловые бусы.
Я разложила конверты в первоначальном порядке. Каждый помечен большой буквой, каллиграфически выведенной красной тушью в левом верхнем углу. Вместе они образуют слово «ЭРОТОЭНЦИКЛОПЕДИЯ». Так я и озаглавлю перевод писем на польский.
Полночь. Напившись крепкого «Эрл Грея», барабаню по клавиатуре. Чтение писем меня взволновало. Мысли бегут наперегонки, пальцы едва за ними поспевают. Я отстукиваю:
Эти письма очень важны, особенно сегодня. XXI век начался под знаком веры в аутентичность — тук — во всевластие документа — тук-тук. — Мы пресытились фикцией двадцатого века — тук — плодами фантазии литераторов — тук, тук. — Пришло время свидетелей истории — тук — подлинных слов — тук — подлинных картин — тук-тук. — В эпоху теленовостей, когда судьбы мира вершатся в прямом эфире, только идиот станет читать на сон грядущий «Анну Каренину»! Лично я не колеблясь отдам ее за один автограф настоящей Анны, за одну фотографию Карениной. Да, Толстому было что сказать о своей героине. Но ведь не то, что вычитал бы из подписи настоящей Анны графолог. Не то, что мы увидели бы на пленке, отснятой в спальне Карениной.
О том, что на самом деле происходит в спальне, мы всегда стремимся узнать как можно больше. Ценность писем к профессору Барту — еще и в том, что практически все они написаны в спальне. Это, однако, не должно помешать Министерству образования включить данное собрание эпистолографии двадцатого века в школьную программу. «Любовь испаряется, папирус остается», — писал римский поэт Проперций возлюбленной Цинтии в письме, отправленном из Александрии. Разумеется, он имел в виду документальную ценность романтической переписки, которая была и остается неиссякаемым источником представлений минувшей эпохи о любви, да и о ней самой — последнем периоде в истории эпистолярий, писанных от руки и отсылаемых почтой.
Корреспонденция профессора Барта должна быть издана факсимильным способом. К сожалению, маленькому издательству «Sic!» подобное не по силам. Однако я не теряю надежды, что среди многочисленных меценатов культуры найдется в скором времени благодетель, который это осуществит. Лишь факсимиле наглядно продемонстрирует молодому поколению смысл и очарование переписки, свойственные — увы, минувшим — временам, когда играло роль каждое пятнышко на бумаге, а ее цвет, толщина, шероховатость и запах были частью содержания письма. Ведь твердая карточка, присланная в белом конверте, прочитывалась совершенно иначе, нежели шелковистый листочек папиросной бумаги, извлеченный из кремового конверта, адрес на котором чья-то умелая рука вывела фиалковыми чернилами.