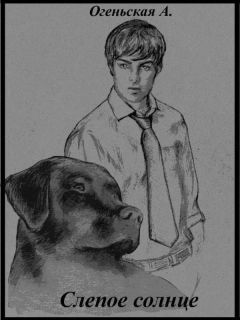Виктор Робсман - Царство тьмы
— Опомнись, матушка… — просил я. — Уже скоро станция…
Но вместо ответа, она подобрала рясу и пустилась в веселый пляс. Руки ее носились по сторонам, они что-то просили, кого-то звали, хотели сказать что-то самое главное.
«Боже мой!» — вскрикнул я, не владея собой, — «Она сошла с ума!».
VIIНе помню, как доехали, мы до Харькова, как встретили нас дома и что было после того со мной. Не скоро узнал я, что матушку Марию поместили в дом для душевно-больных, который стоит на Холодной горе и зовется «Сабуровой дачей».
Весенняя посевная
Все незаметно преобразилось. Еще недавно деревья дрожали раздетые и нигде не было видно черной земли. Люди прятались во всякую тряпку, надевали на себя все, что есть, и по этой странной одежде нельзя было отличить мужика от бабы, старых от молодых. Все в равной мере страдали от морозов и трудно сказать, в чем больше терпели люди нужду: в дровах или в хлебе. А теперь вся земля открылась вдруг, голые ветки зашевелились и отовсюду побежала живая вода. Между избами, и дальше к колодцу уже протоптали веселые дорожки, но их скоро размывало дождем, и девки ходили по слякоти босыми. На проезжих дорогах еще стояла распутица, но в колхозах уже спешно составляли списки полевых бригад, разлучая мужиков с бабами, матерей с грудными детьми, и гнали их в поле перевыполнять нормы. Уже из города приезжали бригады бездельников на охоту за людьми, которые всегда в чем-нибудь виноваты перед советской властью. Село пустеет, и только тяжело больные и старики, у которых дни сочтены, кряхтят и стонут в заброшенных избах. Многие больные просятся в поле, чтобы заработать трудодень и быть равноправными едоками в своем колхозе.
В такое время отправился я с агрономом земотдела в Смелу, богатую когда то сахарной свеклой. По дороге мы часто встречали сахарные заводы с торчащими вытяжными трубами, давно бездействующими без свеклы. Другие, слабо дымились, указывая на угасающую в них жизнь. Все теперь заняты были здесь севом свеклы, и уже многие пострадали из-за нее напрасно.
Утро было влажное и мы зябли. Агроном бережно и не торопясь скручивал на холоде папиросу, внимательно заправлял ее в мундштук и, подбирая с кожуха крошки, вкусно затягивался дымом. Не поднимая глаз, он сказал ни к кому не обращаясь:
— Почему он везет нас по этой дороге? В такую распутицу и на грунтовой дороге легко потонуть, а здесь тем более…
Повозившись с папиросой, он заговорил снова:
— Не езда, а мучение. Так, пожалуй, и к вечеру не доедем до села. Сколько ни едем, а Все еще кроме хвоста кобылы ничего не видно…
Слабая лошадь, вся в болячках, с трудом вытаскивала нас всех из густой грязи, и часто подолгу останавливалась передохнуть.
— Она у тебя спит, — дразнил агроном возницу.
— Не кормленная, — отвечал тот, не поворачивая лица.
Лошадь тяжело дышала и слышно было, как что-то ворочалось у нее в груди. Поношенная сбруя с поблекшими украшениями сползла на брюхо, бока безобразно выдавались из худого тела, шея вытянулась и все ребра были видны.
— Что же нам делать! — продолжал агроном не унимаясь. — Ждать здесь засухи, или самим впрягаться в телегу? Где ты подобрал такую калеку?
— Она не кормленная, — повторил мужик, и для виду стал пугать лошадь кнутом. Лошадь напряглась, вытащила нас из лужи, и опять стала.
Тогда мужик рассерчал — он рванул вожжи и заиграл кнутом. Удары кнута ложились рубцами на больном теле и животное нервно вздрагивало.
— Ты ее не кнутом, а лаской… — посоветовал агроном, добрея при виде страданий животного.
Но возницей уже овладел азарт, и страстно прикрикивая и присвистывая, он хлестал кобылу по тем местам, где было ей всего больнее. Она рвалась из оглобель, некрасиво взбрасывая задние ноги. Наконец, после больших усилий ей удалось сдвинуть телегу с места, и она неловко побежала, задыхаясь. Но очень скоро ноги ее снова подкосились, и разрывая на себе сбрую она тяжело упала в жидкую дорожную грязь. Агроном бросился тянуть ее за хвост с такой силой, точно намеревался вырвать его из живого тела, а в это время мужик бил кобылу кнутом по морде и под брюхо, и рвал удилами посиневшую губу. Лошадь стонала. Она смотрела на нас смущенно и виновато, как смотрит провинившийся работник на своего хозяина. В ее умных и покорных глазах не было ни упрека, ни жалобы, ни просьбы, а только смущение, какое испытывают всегда слабые перед сильными. Она хотела подняться и побежать, чтобы выполнить свою последнюю службу, и опять упала.
— Сдыхает, бедняга… — произнес агроном, и отпустил хвост.
Лошадь металась. Она силилась поднять морду с мокрой земли, но, в это время, бледные десны ее открылись и из ноздрей вырвалась белая пена окрашенная кровью.
Возница вдруг заволновался; он бросил кнут и стал освобождать лошадь от оглобель и упряжи. По его неловким движениям было видно, что он чего-то боится. Он суетился напрасно, потому что забота его уже не была нужна издыхающей кобыле. И чем больше начинал понимать он свое бессилие, тем больше росла его тревога, и ему стало страшно.
— Мне за нее отвечать! — закричал он странным, точно не своим голосом, и оторопел. Напуганный этой мыслью он Все еще боялся потерять надежду спасти лошадь, и снова взялся за кнут.
— Что ты делаешь! — закричал на него агроном. — Ведь она мертвая!
Но он не хотел поверить этому, не хотел привыкнуть к этой опасной мысли, не хотел признать, что Все кончено, и еще с большей силой принялся стегать кнутом уже мертвую кобылу.
Кругом нас собирались сумерки, земля чернела, и запоздавшие птицы торопливо искали свою потерянную ветку. А нам некуда было деться на ночь. Сиротливо и неподвижно стояла среди дороги телега с опущенными оглоблями, никому ненужная. Нас выручила тогда встречная подвода, которая доставила нас в ближайшее село.
IIВысадившись у сельсовета мы увидели на голом дворе молодую девку, которая скакнула через весь двор босыми ногами, и мигом воротилась к нам.
— Кого вам надо? — сказала девка, утирая пальцами нос. Председателя? Он наверно с картошкой занят, у нас посевная картошка погорела в яме. Я схожу за ним… — и исчезла.
Скоро пришел сторож в тулупе, поставил на скамью чадящую лампу и ничего не сказав, скрылся. Потом несмело вошел в избу мужик с длинной шеей, длинными руками и в длинной, не по росту, рубахе.
— Мы к вам по пути, у нас на дороге лошадь пала, — сказал агроном, приняв мужика за председателя.
— Это ничего, — ответил мужик сдержано, — теперь много коней подыхает…
— Ты нас накорми чем есть, мы со вчерашнего дня голодные, — сказал агроном.
— Это ничего, — снова повторил мужик сдержанно, видимо ничем не интересуясь, — теперь много голодных повсюду, а сытых мало…
— Чего ты притворяешься! — возмутился агроном, и стал упрекать мужика за плохое обращение. В это время дверь шумно отворилась и в комнату ворвался энергичный человек в кепке, похожий на рабочего от станка. Он накричал на мужика и стал гнать его из избы плохими словами.
— Я к вам за картошкой… — робко произнес мужик.
— За какой картошкой?
— За гнилой картошкой, которая в яме погорела…
Председатель посмотрел на нас и смутился.
— Она ведь все равно погорела, — продолжал тем временем мужик, — ее все равно сажать нельзя, а для мужика она корм. Распорядись, чтоб картошку ту не давали скотине, а мужикам. Бабы за нее дерутся…
— Вот видите, — обратился к нам председатель, — здесь у нас такое несчастье приключилось с посевной картошкой, задохлась в яме, а этот дурак радуется.
Он с трудом прогнал мужика, и стараясь быть никем не услышанным, упрашивал нас не задерживаться долго в селе, потому что если нас убьют, то ему придется отвечать.
IIIУтром нас увезли в Смелу на сахарный завод. Мужики нам завидовали, точно мы ехали на курорт. Там люди жили сытнее и удобнее, получали хорошие пайки, в выходные дни мылись мылом в общественной бане, стариков и детей брили на голо, чтобы не вшивели, и клопов там тоже было меньше.
Нас встретил помощник директора, беспартийный специалист по сахароварению. Прежде работал он на заводе мастером, потом стал хозяином, приобрел семью и сбережения. Большевики сбережения забрали, семью оставили и велели ему работать на заводе за жалование. Был он человеком полезным и нужным, и его терпели, хотя к социализму он не высказывал пристрастия. Судя по его привычкам к сытной еде и семейной жизни, он не был сторонником социализма в одной стране, тем более во многих странах.
— Да, это очень печально, очень печально… — повторял он без всякого чувства, выслушивая наш рассказ про сдохшую кобылу.
— Что лошадь! — продолжал он, провожая нас к себе домой. — На селе теперь и живых мужиков мало осталось. К нам пригоняют теперь на время сева из города счетоводов и машинисток… Жалко смотреть, как они обращаются с землей.