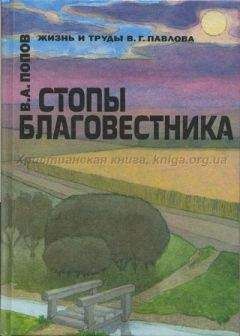Вячеслав Иванов - Перевернутое небо
Но вернусь ко времени, когда слова “подписанец” еще нет, гонимых защитить никто не пытается, верхи Союза писателей съехались на расправу с одним поэтом, а я стою на мраморной холодной лестнице старого особняка, и моложавый официальный человек с холодными глазами исправного чиновника берет из моих рук письмо Пастернака. Кругом тихо и безлюдно, удушают беззвучно, в резиновых перчатках, никакой толчеи, никакой сутолоки. А в той комнате, откуда голоса не доносятся, и куда сейчас с лестницы вернется Воронков, и где главные литераторы один за другим поносят Пастернака, много лет спустя я окажусь на заседании новой Комиссии по его литературному наследству. Туда меня включат уже в горбачевское время, и там я заговорю о необходимости разыскать и напечатать то письмо, которое я так давно привез в это здание и на эту лестницу, чтобы Воронков принес его в эту комнату.
Отдав письмо Воронкову, я выхожу из кажущегося безлюдным и немым здания на явно безлюдный, заполненный машинами двор. Там меня ждет такси, я еду обратно к дому Ольги Всеволодовны. В большой комнате накрыт стол, откупорена бутылка коньяка, мы чокаемся, выпиваем. Стараемся говорить о чем-либо, что могло бы отвлечь Бориса Леонидовича от его грустной задумчивости. Ему определенно не по себе, но и ему хочется отделаться от печали, стряхнуть с себя видимое всем уныние. Он вместе с нами слушает рассказ сына Ольги Всеволодовны Мити, только что вернувшегося из археологической экспедиции в Грузию, где он копал курганы второго тысячелетия до нашей эры. Этой экспедиции посчастливилось в то лето найти древнее захоронение с колесницей. Я поражен рассказом, потому что как раз в то время начал заниматься следами переселений индоевропейских племен, передвигавшихся на колесницах, читал об этом лекции (им суждено было прерваться вскоре из-за событий, о которых я рассказываю), начал писать и печатать статьи на эту именно тему. Мне не хватало как раз сведений о Кавказе – и надо же, чтобы я услышал их в тот день, среди волнений, относящихся вовсе не ко второму тысячелетию до Рождества Христова. И уже не потому только, что хотел увести мысли Бориса Леонидовича в сторону от этих волнений, я, задетый за живое, расспрашиваю Митю о находке, о том, как бы мне узнать все ее подробности.
Борис Леонидович, всегда настойчиво искавший уподоблений и тут же делившийся найденными подобьями с присутствующими, слушает Митю и, глядя на него, восклицает: “Похож на молодого Маяковского!” При всем, что в ту пору говорил и писал Пастернак о позднем Маяковском, в этом замечании о молодом Маяковском не было никакого оттенка отрицательного, напротив, он находил в Митиной внешности черты, особенно ему когда-то пришедшиеся по вкусу. На какое-то мгновение Пастернак повеселел, сказал, что, выпив немного коньяку, чувствует себя лучше.
Ариадна Сергеевна заговаривает о бумагах своей матери, которыми она в то время занималась, о тогда нам не известных стихотворных переводах Цветаевой с русского на французский и о том, какой (скорее отрицательный) прием встретили эти переводы в то время, когда они были сделаны, у знакомых с Цветаевой поэтов, писавших по-французски. Борис Леонидович очень вяло откликается на ее рассказы, несколько меня этим удивляя.
Как мы ни старались удержать разговор в границах за пределами происходившего в те же часы в Союзе писателей, тема опасности, грозящей Пастернаку, вторгалась в нашу общую беседу. Ольга Всеволодовна начала говорить о том, что в Переделкине жить и гулять опасно, предлагала, не поселиться ли Пастернаку временно у нее, не будет ли это безопаснее. Он отверг это предложение сразу и решительно. Его раздражили и последующие разговоры о том, что ходить по Переделкину одному, как он привык, не стоит. Нехотя согласившись с предложенем Ольги Всеволодовны, чтобы я его сопровождал сегодня вечером в обычной для него прогулке перед сном, он пресек дальнейшие претившие ему разговоры очень решительно. Он встал из-за стола со словами: “У меня такое чувство, что я побывал здесь на заседании, где меня тоже обсуждали, как сейчас обсуждают там”. Он был раздражен назойливым вмешательством в заведенный распорядок его жизни, который ничто не должно было нарушать – даже угроза нападения из-за угла. Он не считал ее несущественной, но не желал с ней считаться. Его бесило явное стремление Ивинской использовать ситуацию в своих целях, не имевших отношения к заботам о его безопасности (а мне казалось, что в это время едва ли кто-то из его врагов хотел его бандитского физического уничтожения – с ним должны были расправиться по советским законам).
Мы вышли с ним вдвоем. Он предложил ехать в Лаврушинский на такси. Я согласился. Мне нужно было перед лекциями заехать домой за своими конспектами и книгами. Но главное – мне хотелось отвлечь его от предчувствий, тенью ложившихся на его лицо: он заметно помрачнел.
Как только мы вышли из подъезда дома Ольги Всеволодовны, я попытался продолжить начатый было там Ариадной Сергеевной разговор о Цветаевой. Но не тут-то было. В ответ на мои неподдельно восторженные слова о том, сколько и какие вещи она сумела написать за короткий срок в двадцатые годы и в самом начале тридцатых, Борис Леонидович в ином, вполне трезвом будничном тоне продолжал: “Да, и какое стилистическое разнообразие!” Мне это деловое замечание не показалось одобрительным. Мне почудилось, что пора увлечения некоторыми вещами Цветаевой была у Бориса Леонидовича позади.
В такси, пытаясь найти тему, уводящую от назойливых обсуждений ближайшего будущего, я снова заговорил об удивившем меня совпадении моих занятий колесницами с тем, что неожиданно рассказал Митя о находке в Грузии. Я добавил что-то о частоте таких диковинных совпадений в моей жизни. Здесь Борис Леонидович меня поддержал: “Вы ведь знаете, по поводу романа иногда говорят, что в нем слишком много совпадений, что так на самом деле не бывает. А я так и живу”.
Я попытался рассказать Борису Леонидовичу, как можно подобные совпадения попробовать истолковать в духе теории информации, тогда увлекавшей меня и моих друзей-математиков. Мы тогда ее перетолковывали так. Если у каждого события есть своя мера неожиданности, то чем больше эта мера, тем больше сообщаемая событием информация. Жизнь – поток событий – можно было бы понимать как шифр, который, если уметь его разгадать, сообщает нам очень много, нужно только понять, когда случаются события, несущие наибольшее количество информации (какую-то версию этих мыслей, которых я придерживался и позднее, с моих слов пересказал потом Солженицын в “Теленке”, вопреки своим правилам конспирации называя меня по имени в тогдашней нелегальной публикации). От этих прикладных соображений я перешел к самой теории информации и заметил, что один из ее создателей – Колмогоров – многим из моих друзей (да и мне самому) напоминал иной раз Пастернака. Но я не успел перечислить, чем именно – не только внешними приметами. К этим последним я относил соединение еще молодого загорелого лица с сединой. Но сходство, казалось, было и в тех чертах, в которых выражалась суть характера: в бормотании как бы себе под нос, но при этом на людях. Это была особая форма разговора с самим собой, но не наедине, а при любом стечении народу. Удивительным было естественное самораскрытие при, казалось бы, самых для этого неблагоприятных обстоятельствах, чем впоследствии мне не раз Пастернака разительно напоминал молодой Аверинцев. Борис Леонидович, любивший разные сравнения ситуаций и людей, мне кажется, не так стремился их выслушать по отношению к себе (мне приходит на ум мандельштамовское “Не сравнивай: живущий несравним” – и это отрицание было им сказано по поводу признаваемого им в Воронеже сравнения себя и Данте!). Но, наверное, даже не из-за этого нежелания говорить о будто бы сходных с ним людях, а потому что ему не терпелось перевести разговор от как будто пустячных тем (ну чем на него может быть похож какой-то математик?) на то, что его в самом деле в этот миг занимало; он прервал меня, как только я упомянул его сходство с Колмогоровым. Деланно заинтересованно, но с видимым безразличием он спросил: “Да что вы, неужели?” – и заговорил о другом: “Вы знаете, у меня такое чувство, что пока мы с вами разговариваем, со мной происходит что-то очень плохое”. Его беспокоил исход заседания в Союзе писателей. Я постарался сказать какие-то утешительные неопределенные слова о возможности не слишком тяжелого решения. Борис Леонидович не верил в это, да и я сам тоже, оттого всерьез не мог его разуверить. Мы доехали до дому и попрощались до вечера, условившись, что около девяти встретимся в Переделкине (куда я вернусь после лекций) и пойдем гулять вместе, как договорились раньше.
Ближе к вечеру ко мне домой в Лаврушинский на своей машине приехал мой приятель Миша Поливанов, волновавшийся и пытавшийся понять, что будет с Борисом Леонидовичем. Он вызвался отвезти меня с Таней в Переделкино. Но когда мы сели в машину, оказалось, что, пока мы с Мишей дома обсуждали события, на улице началась пурга, настоящая пастернаковская ведовская городская вьюга, залеплявшая стекло машины, завывавшая на разные голоса. Возле конца Арбата Миша обессилел в борьбе с метелью и сказал, что не сможет нас довезти до дачи. Эта пурга в тот вечер показалась каким-то воплощением начавшегося разгула недобрых стихий. Она как будто мне восполняла своими визгами ту дневную безлюдную тишину двора Союза писателей, возвращала мне сторицей взятый там долг – “опять повалят с неба взятки”. А тут уже было как у раннего Пастернака – “Колиньи, мы узнали твой адрес!” – Варфоломеевская ночь, но данная не только Союзом писателей и Воронковым, но и по-пастернаковски – слепящей пургой.