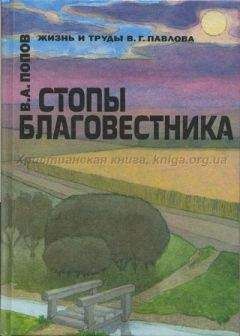Вячеслав Иванов - Перевернутое небо
К сфере запугивания можно отнести и распространившийся в то воскресенье и дошедший до Переделкина слух, что затеваются какие-то публичные уличные демонстрации против Пастернака с требованием наказать его.
Вечером я заходил к Пастернаку на дачу. Из того, что относится к этому же дню, я нашел в своих беглых записках упоминание об одном коротком разговоре с Пастернаком в присутствии Зинаиды Николаевны. Он, как ему бывало свойственно, в лицах изобразил, как она готова за него постоять в трудную минуту, отстоять от врагов: “Глаза им выцарапаю”, – шутливо как бы подражал он ей. Эта непринужденная прямота, безусловно, всегда ему в ней была по душе.
Я вернулся в Москву. Начиналась рабочая неделя со всеми моими университетскими занятиями.
64
в?” – рассерженно спросил Воронков (он, видимо, уже был поставлен в известность о том, что мой отец по болезни не придет на заседание, и удивлен тем, что звонит кто-то с той же фамилией, имеющий к Пастернаку отношение). Я поясняю, что я сосед Бориса Леонидовича (вдаваться в свою родословную и тем более в род занятий мне казалось неуместным). Воронков сказал, что ждет меня с письмом.нов (отцом вывезенное из Сибири, там оно задержалось в заповедной чаще дремучего говора). “Какой Иван‹в,” – ответил я, делая неестественное для меня (как и для отца) ударение на последнем слоге фамилии, как во избежание непонимания приходилось поступать всегда, говоря с людьми малообразованными или далекими от мира искусств, где только еще и сохранялось старинное верное произношение ИвУтром 27-го – в тот день, когда собиралось правление Московского отделения Союза писателей для исключения Пастернака, – мне позвонила Ольга Всеволодовна. Она попросила срочно к ней приехать, добавив, что Борис Леонидович плохо себя чувствует и она хотела бы его отговорить от упорного желания идти на это заседание. Он обещал к ней заехать по пути в Союз. Когда я пришел, Бориса Леонидовича еще не было. Кроме Ольги Всеволодовны и ее дочки Иры я увидел еще Ариадну Сергеевну – дочку Цветаевой. Мы успели тогда только обменяться как будто единообразно звучавшими фразами о том, что ради здоровья Бориса Леонидовича ему не нужно идти на заседание. Вскоре пришел он сам. В самом деле он плохо выглядел, был бледен (скорее всего, от волнения). Не очень уверенно он повторил, что хочет пойти сам и постараться все объяснить собравшимся. Из его слов было ясно, что это заседание и его будущее решение для него много значат. К писателям и к тем из них, кто должен был быть в тот день на правлении, он относился всерьез. Это были его товариши по литературе. Им он и хотел все объяснить. Он считал, что ему необходимо там присутствовать. Но чувствовал он себя настолько плохо, что совместными усилиями нам удалось его отговорить. Он согласился написать письмо в правление с изложением того, что намеревался там сказать. Он пошел в маленькую отдельную комнату, мы же остались сидеть в большой – столовой. Пока мы уговаривали Бориса Леонидовича не ходить в Союз, а он отнекивался и настаивал на своем, прошло время. Было уже около двенадцати дня – на этот час и было назначено заседание. Надо было позвонить в Союз писателей, предупредить, что Борис Леонидович не придет, но пришлет письмо. Телефон у Ольги Всеволодовны стоял в той маленькой комнате, куда Борис Леонидович пошел писать письмо. Чтобы не мешать ему, нужно было спуститься к соседям этажом ниже и позвонить от них. Я вызвался это сделать. Ольга Всеволодовна дала мне номер телефона, по которому нужно было звонить. Тогдашний главный комиссар при литературе, потом много лет ею заправлявший, Воронков, быстро подошел к телефону. Я объяснил ему, что по нездоровью Борис Леонидович не сможет быть на нынешнем заседании и что он пришлет письмо, я его привезу скоро. “А кто говорит?” – “Иван
Когда я вернулся от соседей Ольги Всеволодовны в ее квартиру, мы все вместе еще довольно долго ждали, пока Борис Леонидович выйдет из своего уединения с написанным письмом. Как он потом нам пояснил, у него отнял время Крученых, позвонивший как раз тогда, когда он начал писать письмо (к слову сказать, как мне потом рассказали, именно Ольге Всеволодовне как-то звонил Крученых, когда подошел Пастернак и прогудел: “Алеша, мне такое о тебе говорили, что я не могу сказать по телефону: мне сказали, что ты работаешь нельзя сказать где… ну, что ты работаешь у них… в органах, ну понимаешь, в НКВД-ГПУ”. То ли гипотетический факт его стукачества, то ли в самом деле беспокойство о Пастернаке были причиной того, что в то утро Крученых хотел узнать новости о нем, наткнулся на него самого и помешал писать письмо). Но и на обдумывание и писание письма нужно было много времени, оно было пространным – сколько помню, четыре больших страницы, исписанных размашистым почерком Бориса Леонидовича. К сожалению, в подавляющем большинстве публикаций, касавшихся “дела Пастернака”, текст этого письма долгое время не приводился. Напечатан он был значительно позже других, спустя десятилетия после смерти Пастернака. Единственный его подлинник, написанный Пастернаком наспех карандашом и отданный мной в тот день Воронкову, долго оставался в архивах Союза писателей и был широкой публике не известен. А ведь только это письмо, письмо Фурцевой, отданное загадочному фотографу, и посланная потом Нобелевскому комитету телеграмма с отказом от премии написаны самим Пастернаком и выражают его чувства в начале гонений. А во многих собраниях сочинений (кроме самых последних) и других изданиях чаще повторялись позднее написанные или переписанные другими людьми (в том числе и мной) тексты, лишь отредактированные и подписанные Пастернаком. Как и когда они писались – об этом речь пойдет дальше.
В том карандашном письме правлению Союза писателей Пастернак в присущей ему манере писал о несправедливости гонений и неизбежности последующего слишком позднего покаяния гонителей. Он прочитал нам это письмо в первоначальном его (несохранившемся) виде. Мне оно очень понравилось прямотой и смелостью. Все мы только сошлись на том, что лишней была фраза о дошедших до Пастернака толках, будто предполагаются и какие-то шествия по улицам с проклятиями (шествий потом не было – ограничились публикацией в газетах возмущенных писем читателей). С этими возражениями Пастернак согласился. Письмо было набросано карандашом. Это место и еще два-три других, где мы ему предлагали или подсказывали какие-то не менявшие общего смысла исправления, он тут же менял с помощью ластика, еще раз уединившись для этого в небольшой комнате.
ва”, Пастернак озабоченно воскликнул: “Да зачем же вы себя назвали?” Ариадна Сргеевна с присущей ей твердостью формулировок вмешалась: “Да потому что никто из нас не собирается от тебя отказываться, и Кома первый”. Я что-то промямлил, желая нейтрализовать риторическую торжественность ее замечания и свести на нет содержавшийся в ее словах намек на тяжесть ситуации, и без того хорошо ощущавшуюся Борисом Леонидовичем.Когда Борис Леонидович наконец кончил работать с письмом и вышел к нам, я в двух словах пересказал ему свой разговор с Воронковым. В том месте, где я дошел до “Иван
Письмо было готово, конверт подписан (кажется: “Правлению Союза писателей от Б. Пастернака” – тоже карандашом). Я с ним отправился искать такси. Я очень спешил, думая, что Воронков (как я просил его по телефону) задержит заседание до тех пор, пока я не привезу письмо. Но когда на пойманном такси я въехал во двор особняка толстовских Ростовых, где разместился Союз писателей на улице Воровского, и на часах было, сколько помню, без десяти час, заседание уже явно началось. Двор Союза писателей поражал безлюдностью в сочетании с тогда небывалым количеством машин, видно, ожидавших съехавшихся литературных сановников. Воронков, видимо, ждал моего приезда. Он или кто-то из его прислужников, вероятно, поглядывал во двор во время заседания. Не успел я подняться на несколько ступенек по лестнице, ведущей от парадной двери к бельэтажу, как меня там встретил довольно молодой (или моложавый) человек – совсем не та раздувшаяся на общесоветско-бюрократический лад морда, которую мне десятилетия спустя показали в Переделкине на дорожке, сказав, что это – Воронков (моя собственная, достаточно короткая история взаимоотношенний с ним сводится к тому, что, когда, уже после смерти Эренбурга, бывшего председателем Комиссии по литературному наследству Пастернака, Женя Пастернак предложил новый состав Комиссии, Воронков возразил против моего включения в нее: он не допустит в члены Комиссии “подписанцев” – тех, кто подписывал протесты против политических судов 1960-х-1970-х годов).
Но вернусь ко времени, когда слова “подписанец” еще нет, гонимых защитить никто не пытается, верхи Союза писателей съехались на расправу с одним поэтом, а я стою на мраморной холодной лестнице старого особняка, и моложавый официальный человек с холодными глазами исправного чиновника берет из моих рук письмо Пастернака. Кругом тихо и безлюдно, удушают беззвучно, в резиновых перчатках, никакой толчеи, никакой сутолоки. А в той комнате, откуда голоса не доносятся, и куда сейчас с лестницы вернется Воронков, и где главные литераторы один за другим поносят Пастернака, много лет спустя я окажусь на заседании новой Комиссии по его литературному наследству. Туда меня включат уже в горбачевское время, и там я заговорю о необходимости разыскать и напечатать то письмо, которое я так давно привез в это здание и на эту лестницу, чтобы Воронков принес его в эту комнату.