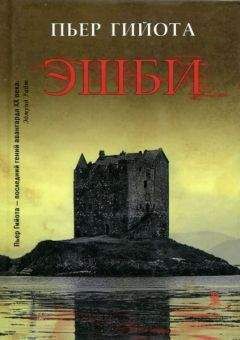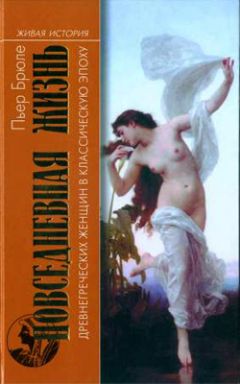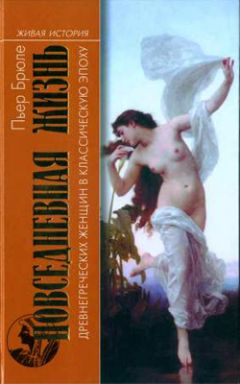Пьер Гийота - Воспитание
20 июля, в день неудачного покушения на Гитлера[37] Филиппа ранят при Овер-сюр-Уаз: шесть пуль, в руку, грудь, ляжку, ногу и плечо.
Клотильду, одну из сестер нашей матери, активистку подполья, арестуют и бросают за решетку во «Френ».
*
В ходе наступления союзников в долине Роны наш дядя Пьер расквартировывает свою роту алжирских стрелков в нашем семейном доме в Сен-Жан-де-Бурне, где живет наша тетка К. со своими детьми: ее муж сбегает из лагеря для пленных офицеров в Германии, его снова берут в плен и сажают в карцер крепости Кольдиц.
Во время боев, ускоряющих отступление немцев и наступление войск «Свободной Франции», которым помогают местные партизаны, наша деревня под огнем: ружья, пулеметы. Нацисты, вместе с остатками милиции и французского гестапо, загоняют партизан в арендуемый нами сад. Нашего отца арестуют вместе с другими жителями городка, обыскивают, прижав к тыльной стене нашего дома; типография.
Почтамт, над которым мы живем, служит мишенью для немцев. Мы прячемся под кроватями в комнате девочек, в несгоревшей части Каштановой рощи или у нашей тетки Шанталь, выше в квартале Котавьоль. Наш дед Вианне сидит перед окном, выходящим в центр деревни. Пуля разбивает стекло в паре миллиметров от его большой седой бороды.
Из этого же окна мы видим, я вижу, как удирают члены муниципалитета, назначенные Виши, и другие коллаборационисты, в черных автомашинах, на северо-восток и на юг.
В конце августа генерал де Латтр[38] отправляется с Первой армией на освобождение Сент-Этьена: в преддверии боев множество детей эвакуируют из этого горнопромышленного города в деревни массива.
Один, на два-три года старше меня, - его имя звучит революционно, как и многие имена той эпохи, - приезжает к нам под вечер на автобусе.
Он спит в нашей комнате, на третьей кровати, играет с нами, у него очень мало одежды, но есть школьная блуза: он что, из выживших учеников школы Тарди в Солнечном квартале, разбомбленном союзниками, где погибло шестеро детей? Мы пахнем деревней, лесом, травой, пихтой, свежестью: молоко, навоз, кофе, мы очень быстро распознаем его городской запах, дух рабочего квартала.
Мать ведет нас гулять по холмам вокруг деревни. С матерью мы показываем ему природу: растения, ящериц, птиц, лягушек, воду; а с ним наедине вытаскиваем из земли червяков, ловим кузнечиков и самых мелких съедаем живьем. Иногда, если удается стащить из кухни спички и коробок с остатком серы, пока не видит мать, лежащая в шезлонге под пихтами, мы поджариваем на земле маленьких слизней и черных муравьев, которых пожираем у него на глазах. Мы придумываем испытания: пробраться сквозь заросли ежевики, подойти к гадючьей норе у задней, восточной стены сада, пробежать с открытым ртом сквозь рой мошкары; или грозовым вечером - гром с заводской стороны, выше по течению - поваляться на грядке молодой крапивы. Молнии, гром, мельтешение насекомых, сырость от горной реки и крысы; кошачьи вопли на бетонной урне по ту сторону набережной; мы толкаем мальчика перед собой в крапиву и сами валяемся вместе с ним, а он кричит, плачет, отбивается. Мы поднимаемся уже с сыпью на коже, на ляжках, коленях, руках, шее, и бежим в верхнюю часть сада, где рядом с фонтаном в простую бочку стекает вода из горного родника, которая, выливаясь из отверстия внизу, орошает сад, мы входим в теплицу, куда садовник складывает свой инвентарь, свои овощи и цветы; на случай осиных и пчелиных укусов он хранит здесь пузырек с уксусом, заткнутый тряпкой. Мы обмазываемся уксусом, но внутри у меня уже боль сильнее укуса, ощущение, что я совершил самую большую, самую непросительную жестокость на свете; и главное, над самым слабым для меня тогда существом, сыном рабочего, спасающимся от бомбежки, беженцем; общественное преступление и нарушение слова, данного матери, которая просит нас после приезда ребенка взять его под свою защиту. Я поднимаюсь в квартиру к полднику, а затем, пока мать не видит, снова спускаюсь один, сажусь, переворачиваюсь и ложусь ничком в крапиву, и затем даю себе слово возвращаться сюда каждый день своей жизни, то есть завтра, послезавтра... Я слышу, как машина отца проезжает арку под нашим домом, разворачивается во дворе и становится капотом к выходу. Я встаю и прячусь в одном из шалашей справа в глубине: опасаясь не того, что отец застанет меня одного в саду, а того, что он увидит, как я умерщвляю свою плоть, ведь никто, кроме ока Господня, недреманного в ту пору, не должен видеть этот акт наказания и искупления. Наиболее значительные поступки должны оставаться тайными. Что я мог бы сделать для этого ребенка, дабы загладить причиненную ему жестокость? Какой любовью его пронизать?
Через пару дней после перехода Первой французской армии через Ардешские горы части Американской армии поднимаются по шоссе 82, пересекающему нашу деревню в направлении к перевалу Республики и Сент-Этьену, и останавливаются. «Джи-эм-си»[39], джипы и танки, грохочущие гусеницами, выстраиваются в центре вдоль площади Жанны д’Арк и Почтамта, над которым мы обитаем. В этом месте шоссе сильно разбомбили, машины кренятся к тротуару, к нам; население бурно приветствует их на местном диалекте; раздавая шоколадки и жвачку, солдаты поднимают нас на танки: в ту эпоху всемирного европейского господства Америка ассоциируется для нас с Христофором Колумбом, индейцами, чернокожими рабами и вот теперь с танком. Не нация, а библейская целина: наши детские глаза смотрят на мир с точки зрения франко-английской империи, всемирной даже во время войны. В своих вечерних молитвах наша мать упоминает, помимо народов Империи, еще и жителей Китая, сваливая в кучу националистов и коммунистов, присоединяющихся к западным силам со своими массовыми невзгодами.
*
Через пару дней, решив съездить в разведку на другой берег Роны, в семейный дом, где живет наш дед по материнской линии, прежде чем вернуться на зиму в свою квартиру в Нейи, наш отец, впервые после вторжения в «свободную зону», частично оккупированную Италией, на пару часов прерывает работу: он везет меня в своем зеленом кабриолете «фиат», купленном по случаю до войны: бежевый чехол сложен сзади. Это моя первая сознательная поездка, я сижу рядом с ним, спереди. Почти все время он прижимает меня к себе. У него мало бензина.
Из рассказов нашей матери я уже год как знаю, что народ этой Империи, римляне, жили в нашем районе, что они его создали, а в долине Роны и Вьенне встречаются остатки их сооружений: я вижу их в своих снах, в своих кошмарах. Порой внезапно просыпаюсь - от шагов легионеров, звуков побоища? -и кричу:
- Мама, мама, римляне!
Я так спешу увидеть эти развалины, что очень много разговариваю, и на крутых поворотах маллевальских ущелий меня укачивает. Наш отец останавливает кабриолет перед «Большим поворотом» в форме шпильки для волос и отводит меня к ручью, там меня рвет, а отец опрыскивает мне лицо туалетной водой. Едва я перевожу дух, он спускается кратчайшим путем к подножию «шпильки», где оставляет меня, затем поднимается пешком к кабриолету и доезжает до того места, где жду его я, уже представляя себе гибель, похищение и даже землетрясение, явление Господа, забирающего меня к себе.
Отец избавляется на пару часов от своих пациентов, Франция освобождается, на дне ущелья уже видна великая река, все еще бурная, желто-голубая, пока я дышу бок о бок с ним, он напевает.
Я впервые вижу большую реку. В тени платанов мы поднимаемся по правому берегу Роны до Сент-Колом-ба, вдоль уже краснеющих больших виноградников.
Перед Вьенной я ищу развалины, которые представляю выше и внушительнее «французских» строений. Мы пьем шоколад в кафе-мороженом на углу набережной. Отправляемся из центра, где отец дважды объезжает вокруг Храма Августа и Ливии, почерневшего от промышленных выбросов. В городе мы минуем античный амфитеатр, и отец говорит, что мы еще вернемся сюда с матерью, которая расскажет все лучше, чем он. Я мельком замечаю двухтысячелетние каменные глыбы и представляю вереницы христиан, брошенных на съедение зверям, но мы, дети, еще слишком малого роста и не способны вообразить то, чего не видим воочию; мы не заполняем это скрытое пространство строениями, этажами, а заселяем их живыми сценами. Пространство пока не разворачивается, и на природе ребенок, видя горизонт, воображает, скорее, метафизические границы, нежели неровности почвы. Ребенок представляет изнанку вещей, пустоту, где они покоятся, а не их полноту во всех деталях.
Еще выше начинается равнина между Вьенной и Бургуэном, по которой бежит идеально прямая дорога с единственным поворотом на Детурб. Мы пересекаем равнину, крыша кабриолета опущена, слышен щебет цесарок, кричащих нам вслед.
Мы въезжаем в город не по главному шоссе, а по маленькой нижней дороге, переходящей в асфальтированную улочку вдоль канала Жервонды. У дома, который я вижу впервые с лета 1941 года, - где я на руках у матери, - с его контрфорсами, выходящими на улицу, отец останавливает кабриолет и входит через калитку со двора, дабы отпереть большие парадные ворота. Двор, ряд лавров вдоль тротуара перед фасадом, низкие риги и сарай, крыльцо домика под названием «Класс», - где гувернантка мадмуазель Гужон учит азам моих дядьев и теток в 20-х годах, - размечены и усеяны военными следами и остатками. Наш дядя Пьер, пришедший с юга с батальоном алжирских стрелков, недавно отправился на север, через Эн, Ду. Вода в прудах, дальше и выше деревни, еще мутная после их купаний.