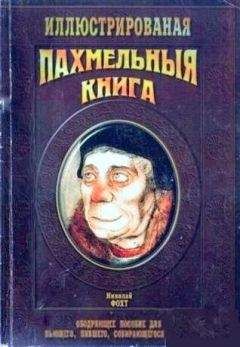Роберт Шнайдер - Ступающая по воздуху
Разговорились. Она возвращалась из Милана. Надо было сделать закупки. Текстиль. Новые проекты. Пока это первый случай, когда мать разрешила ей самостоятельно подобрать ассортимент.
По мере того как длился ее рассказ, возникала странная дистанция, какая бывает, когда люди, что называется, культурно беседуют, чего Амброс терпеть не мог. Втайне он дивился тому, что она ни словом, ни намеком, ни даже презрительным жестом не отреагировала на его буйное, прямо-таки разбойничье вторжение в ее жизнь. Это, казалось бы, полное безразличие задевало его. Ведь ему было ясно, что он встретил душу-близнеца, обитавшую где-то там, за горами, за долами. Когда-то он записал эту поэтическую мысль на клочке бумаги, чтобы потом в дословном изложении посвятить ее той, ради которой выкинул дикий номер с карликовым мотоциклом. С тех пор только этот клочок и составлял содержимое его бумажника. Нет, он не сомневался в том, что Амрай станет его женой, ни секунды не сомневался. Но почему сейчас-то такой холодок? Или уж ее так ожгло, что ничем, ничем на свете нельзя было тронуть ее сердце? Может быть, несчастное детство. Отец, пристававший с сексуальными домогательствами. Или дядя. А ведь она из богатого дома, что видно не только по дорогим украшениям, скорее об этом говорят аристократические манеры. Вероятно, она разбавленных кровей — дитя какого-нибудь фабрикантского рода и, несомненно, стала его последней драгоценностью, в заповеднике слабоумия ее заговаривающихся тетушек и дядюшек.
Он что, не понял ее вопроса? Амрай переспросила более энергично.
— Ну как же, — спохватился Амброс, пытаясь поймать хвостик отзвучавшего вопроса.
В Санкт-Галлен он едет для того, чтобы поработать в монастырской библиотеке. Он изучает в Цюрихе историю искусства, но у него давно уже такое чувство, что там больше нечему учиться. Та история, которой потчуют в университете, не имеет никакого отношения к жизни. Он убеждается в этом каждый божий день, глядя на объевшихся информацией, но страдающих душевной дистрофией профессоров.
Еще надо сказать, что «Снятие со Креста» Рогира ван дер Вейдена по композиции и силе печали, вложенной в образы, — самое грандиозное из того, что он когда-либо видел. Правда, оригинала увидеть не довелось. Но когда-нибудь он ради одной этой доски поедет в Мадрид. Если бы она знала, как близок к тайнописи изобразительный язык фламандских мастеров, на котором они говорили с людьми, созерцающими их картины. Луч света, бьющий из готического окна в полумрак храма, где стоит превышающая человеческий рост «Мадонна с младенцем», — это знак, подразумевающий непорочное зачатие, намек на hymen intactum[1]. Всякий предмет на фламандском полотне, даже вроде бы совсем пустяковая вещь, имеет двойной, тройной смысл. Может быть, она знакома с трудами Отто Пехта, который доказал, что фламандские мастера уже владели законами своего рода линейной перспективы, правда строили ее на совершенно иной основе, нежели итальянцы эпохи Возрождения. Ведь линейная перспектива у Леонардо да Винчи — кстати сказать, явно переоцененной фигуры, как и Пикассо в XX веке, — так вот: эта линейная перспектива порождена, в сущности, тягой к уравниловке всего рода человеческого. Однако, к примеру, Христос неизмеримо выше по значимости, чем Иуда Искариот, а стало быть, и образ его должен иметь больший размер. И обратная перспектива фламандцев намного спиритуальнее, выше по духовной насыщенности, хотя историки искусства во все времена уделяли им меньше внимания. Отто Пехт доказал это…
Она, конечно, не знала работ Отто Пехта. Как и долговязый гарсон, давно уже топтавшийся рядом и терпеливо внимавший искусствоведческим тирадам Амброса Бауэрмайстера в ожидании паузы, в которую можно было бы воткнуть вопрос: «Чего клиент желает заказать?»
Амрай чувствовала себя польщенной, ибо понимала: даже если бы он нес ахинею про йогу, марсиан или что-нибудь в этом роде, словесный фейерверк посвящен ей одной, ясно видела, что для ее покорения введена в бой тяжелая артиллерия. Смеяться она начала, когда пламень его речей перекинулся на проблему авторства Гентского алтаря. И уже почти хохотала, глядя на христосика в кельнерском костюме и со страдальчески склоненной головой. Только тут Амброс прервал свою лекцию и вопрос о том, чей вклад в создание алтаря более весом: Хуберта или Яна, оставил пока открытым.
Нет, заказывать он ничего не будет, у него нет денег. Она сказала, что хотела бы угостить его. Нет, он не может второй раз заставлять ее тратиться. Хорошо, тогда она хотела бы расплатиться. Кельнер составил счет.
— Как? Уже? — удивился Амброс.
— Боюсь, что должна покинуть тебя.
И она была права. Не потому, что чувство требовало ускорить ход событий, а потому, что и в самом деле, как только кельнер выписал счет, по радио сообщили, что поезд прибывает в Букс.
Тут все задвигалось, все смешалось. Особенно в голове Амброса Бауэрмайстера. Его спутница выложила деньги. Тонкий, как тростинка, гарсон с благодарным поклоном отошел от их столика, будучи уверен, что присутствовал при весьма серьезной высокоумной беседе. И уже на кухне все нашептывал, закрепляя в памяти, слово, которое так впечатлило его своим звучанием и могло бы очень пригодиться для обогащения лексикона: humanintakt.
Амрай поднялась со своего мягкого сиденья, на цыпочках потянулась к багажной полке и, ловко перекидывая из руки в руку, спустила вниз два не очень больших чемодана и папку с образцами тканей, затем она надела вязаную куртку того же цвета морской волны, что и свитер.
Амбросу даже в голову не пришло изображать из себя джентльмена, поскольку впервые выдалась возможность увидеть ее фигуру в полный рост. Ростом она была вровень с ним, если вычесть сантиметры толстых подошв ее туфель. Великолепные пропорции рук и ног, узкая талия и женственные очертания бедер. Их крутой переход в талию подчеркивался покроем модных тогда расклешенных джинсов, которые так плотно облегали кожу, что напрашивалось сравнение с нефтяной пленкой на поверхности воды. Не более чем на секунду неудержимо скользящий взгляд Амброса задержался на выпуклости лобка, на шве, за которым угадывался детородный орган. Амброс тут же отвел глаза, почувствовав на себе взгляд Амрай, и ему стало стыдно оттого, что он, по сути, раздевал ее.
— Адье, — сказала Амрай, и в ее голосе звучала нежность.
Она поправила прическу и, уходя, уже стояла спиной к нему, но, чуть помедлив, вновь повернулась и быстро, порывисто поцеловала его в лоб.
Он неподвижно смотрел в ложбину ресторанного коридора, словно в даль, за которой исчезла Амрай, его мысли были размыты, он ни на чем не мог сосредоточиться. Раздался скрежет колес. Ресторан напоминал растревоженный муравейник. В том конце коридора образовалась пробка, так как толстяк, что поперек себя шире, соблаговолил выйти в Буксе и застрял в проходе.
— Ну, наконец-то, — послышался за спиной зычный голос. — Удачно съездила?
Амрай обернулась, поставила чемодан на перрон и обвила руками даму в замшевой куртке с меховым подбоем, нервически чувствительную рослую особу лет сорока с небольшим. Прибывшие и отъезжающие инстинктивно отвешивали обеим почтительные поклоны, ибо дама была из разряда тех, что умеют себя держать, обладая врожденным чувством светскости.
Фрау Мангольд, урожденная Латур.
Фон Латур. Единственная наследница достояния текстильной империи, нити которой в середине 60-х годов дотянулись до Южной Африки, где семейство владело фабриками и большим имением с эксклюзивным видом на кейптаунскую столовую гору, то бишь со срезанной вершиной. Вилла в Белладжо, на берегу озера Комо, спроектированная по принципам Баухауза[2], пестрела на всем внушительном интерьерном пространстве огромными цветами текстильной обивки, которая была изготовлена по особому заказу и составлена из цельных кусков без единого шва. Был и весьма уютный зимний коттеджик в Брегенцском лесу, сработанный исключительно из дерева, с низкими комнатами-шкатулками, отделанными европейским кедром. Еще один дом, с почерневшим фасадом, — так солнце за триста лет опалило его тонкую обшивку. Наконец, дом, перешедший к ним от околпаченного крестьянина, чья скотина издохла во время эпидемии ящура. Ну и, конечно, была родовая резиденция — Красная вилла, построенная в людвигианском баварском стиле, с башнями и башенками, однако несравненно более скромного вида, чем королевские замки близ Фюссена.
Все это именно было, составляло былое владение, ибо блеск рода Латуров уже померк. И двусмысленный девиз: «Латур одевает мужчин», что по-немецки может означать и притекает оных, не манил больше в торговые филиалы женщин из числа верных спутниц венцов творения.