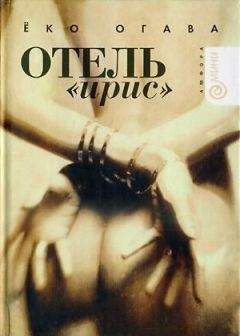Салчак Тока - Слово арата
— Не говори пустого. В такой сильный мороз, голый — куда пойдешь?
— Нет, возьми, — настаивал я.
— Не повторяй пустых слов, не спорь, все равно здесь сидеть будешь.
— Не могу здесь…
Мать обхватила меня, зажала между коленями и отшлепала чем-то широким, но совсем не больно. Я растянулся на земле и нарочно заплакал как мог громче.
— Вот так и лежи.
Уткнувшись лицом в землю, я притворился, что засыпаю. Мать и сестра Албанчи тихо вышли из чума. Обмотав ноги, я выбежал за ними.
Как быть? Догнать — пошлют назад. Пока я думал, мать и сестра стали скрываться из виду, но я их скоро догнал. Мать повернулась ко мне. Я снова заплакал, как в чуме, и повис на ее руке.
— Баа! — закричала мать. — Теперь я с тобой такое сделаю…
Албанчи потянула меня к себе:
— Ну, зачем? Пусть идет с нами!
Ничего не ответив, мать вытерла рукавом глаза и пошла, не оглядываясь, вперед по берегу Каа-Хема. Так шли мы втроем по скрипящему снегу друг за другом, пока наконец не увидели несколько аалов.
Из юрт выделялась одна — высокая и нарядная. Когда мы стали к ней приближаться, навстречу с лаем выбежали собаки. Впереди мчался большой черный пес, похожий на Черликпена. Красный язык у него высовывался изо рта и снова прятался за зубами, глаза горели.
Я прижался к матери. Албанчи взяла у нее палку, вышла вперед и закричала:
— Уймите собак, беда, разорвут людей!
Из нарядной юрты выглянул человек. Не унимая собак, он, улыбаясь, ждал, что будет. Размахивая палкой над головами собак, сестра подвела нас к юрте. Выглядывавший оттуда человек как ни в чем не бывало опустил полог и скрылся. По очереди склоняясь к земле и занося ногу за порог, мы вошли под своды белой юрты. Став на одно колено у очага и низко склонившись, мать пожелала здоровья хозяевам.
Человек средних лет с обритой головой, с носом, конец которого свешивался, как горб у чахлого верблюда, в шубе на ягнячьем меху, крытой желтым шелком, в узорных идиках, ничего не ответил на приветствие. Человек сидел за очагом и недоброжелательно поглядывал на нас. На боку у него, как переметная сума, болталась в чехле табакерка.
Вынув ее и постукав большим пальцем по дну, он запихнул щепотку табаку в обе ноздри и, чихнув, спросил:
— Куда идете?
— Ищем работы, — сказала мать и, показав на меня, добавила: — Чтобы эти остались живы.
Увидав в глубине юрты, на сундуке с золотыми узорами, пестрых бронзовых божков — то ли потому, что она верила в них, то ли потому, что думала угодить ламе, — мать поклонилась божкам.
— Охаай! А что вы умеете делать? — и не дожидаясь ответа, сказал пожилой женщине, сидевшей у его ног: — Не поговоришь ли ты с ними? Дать им мы ничего не можем, ну а работа найдется.
«Вот сейчас эта женщина нам все расскажет», — подумал я и во все глаза стал смотреть на нее.
— Что прикажете, будем делать, — оживилась мать, — только назначьте цену, — и, подойдя к женщине, низко поклонилась.
— Не торопись спрашивать. Пойдешь в соседнюю юрту, там тебе скажут, что делать. За это потом попьешь сыворотки. А насчет цены — какой разговор? Даром, что ли, хлебать будешь? Даром, что ли, сидеть в теплой юрте?
Я снова посмотрел на хозяйку. Одета в ягнячью шубу, шелк синий. Волосы на голове заплетены черной пекинской лентой, в ушах серебряные серьги, щеки густо нарумянены, во рту пестрый чубук китайской трубки, конец которого при разговоре постукивает по зубам.
— Позвольте спросить: сделав работу, каждый человек должен получить ее цену? — осмелилась сестра.
Женщина вынула изо рта трубку:
— Если хотите работать — идите, куда я сказала, если нет — идите, куда знаете.
Так же, как вошли в юрту, мы по очереди вынырнули из нее и направились к соседней — черной, приземистой, стоявшей поодаль.
Там сидело несколько мужчин и женщин. Среди них был наш знакомый, всегда работающий на других, Тостай-оол.
По внешнему виду сидевшие ничем не отличались от нас и одеты были в такие же лохмотья. Кругом ничего не было, кроме сбруи. Я недоумевал: люди бая, а совсем как мы.
Мать и сестра пожелали мира и здоровья сидевшим.
— И вам здоровья, — ответили они, приподнимаясь на руках и раздвигаясь в стороны.
На почетном месте позади очага сидел моложавый мужчина в светло-серой шубе, с косичкой на темени. Это означало, что он недавно вышел из хураков — ламских послушников.
Сидел он с гордой осанкой.
— Мы пришли поговорить о работе и, если можно, о цене. Хелин прислал нас, — тихо сказала мать.
— О работе? — Человек зевнул и, взглянув искоса на мать, нехотя бросил в ее сторону:
— Ты, лысая голова, будешь кожи дубить. Цена будет, сама знаешь: одну шкуру сдала — отколю кусок чая, идики подбила — дам высевок чашку. Ну, а шубу сошьешь — так и дунзы [7] горсть бери — не пожалею.
Бросив эти слова, он часто задышал, словно после тяжелой работы, и, набив табаком трубку, стал пускать дым. Затянувшись несколько раз, он ласково глянул на Албанчи:
— А с тобой, толстушка, мы завтра же, с утра, за дровишки примемся. Вдвоем работать будем, в лесу. — И, чуть толкнув локтем соседа, прибавил, сверкнув краешком глаза: — С этакой с молодой да гладкой у нас дело пойдет!
Он сидел развалясь и говорил нараспев, как воркуют голуби. И вдруг нацелился на меня:
— Ну, а ты что будешь делать? Все, наверное, смотришь, что украсть?
Я нежно прильнул к матери и зарыл голову в ее лохмотья.
Глава 6
Вместе с табунщиками
Тостай не дал меня в обиду.
— Нашел кого пугать! — сказал он, обернувшись к приказчику бая.
— Ишь какой лев нашелся! Вот я тебя, собака, проучу! — зашумел расходившийся приказчик.
Схватив лежавшие у очага конские путы, он уже собирался вытянуть ими по спине моего заступника. Но тут и другие повскакали с мест.
— Если ты Тостая тронешь, мы тебя проучим! — закричали они.
Приказчик притих, захлопал глазами — то на нас, то на них — и выкатился из юрты.
Настала ночь. Веселее потрескивал костер, окруженный людьми. Кто сушил мокрые портянки, кто латал расхлябанные идики; иные выщелкивали ползущую по складкам нечисть.
— Ну, детки, — сказала мать. — Охота поутру верней, чем среди ночи; давайте уснем. — И, облокотившись на вьючную суму, она положила мою голову к себе на колени.
— Мы сегодня, — обратилась она, помолчав, к батракам, — истоптали много снега. У вас, сыночки, не найдется ли, чем посветить в животе?
Тостай отложил в сторону свою работу:
— Угощения не припасли, свои люди — не побрезгуйте.
Он подошел к полочке у входа в юрту. Что он подаст нам оттуда? Бежит-бежит время, а Тостай все скребется у полки. Вот он ставит перед нами деревянное ведерко и с чашку высевок на дне маленького корытца; а сам идет на свое место. Мать посмотрела, что получится, если мы втроем съедим поданный нам ужин, и, сказав: «Съешь ты, мой сын», — насыпала в чашку высевок, налила до половины хойтпака, очистила с краев ведерка подсохшую сметану в чашку, помешала кушанье пальцем и протянула мне.
Отхлебнув из чашки кисловатой гущи, я посмотрел вверх и сквозь дымовое отверстие увидел густую россыпь звезд. Они переливались на небе и подмигивали мне.
В юрте стало морозно. Все уже спали. Лишь двое все еще, перемогая дрему, сидели. За кошмой заскрипели грузные шаги: «Хорт, хорт!» — и в юрту ввалился тот же самодовольный, налитый кровью толстяк.
— Проклятые кулугуры! [8] Чего развалились, разоспались? В поле ночь, темень, — за табуном нужен глаз. Ну, чего ждете?..
Смотрю — подымаются люди; ни слова не говоря, натягивают наспех идики, забирают седла с чепраками, хватают кнуты, уздечки и выбегают из юрты.
Задремав опять, слышу краешком уха: табунщики перекликаются, волки воют протяжно вдали, им откликаются, подвывая, собаки. Я еще плотнее прижался к матери и заснул, словно провалился в страшное, темное ущелье.
Когда я проснулся, в юрте было уже светло. Никого не было, я лежал один. «Где же моя мама, где сестра, где хоть бы тот же Тостай-оол — куда он девался?»
И тут сама хозяйка, жена Тожу-Хелина, вошла в юрту. Будто растерявшись, постояв минутку неподвижно, она вкрадчиво заговорила:
— Вот оно что! Ты все еще спишь, мальчик?
Кошкой к мышонку она подкатилась ко мне.
Все еще не вставая, я заторопился, забормотал:
— Вот-вот сейчас встану… уже встаю.
Но она еще проворнее согнулась надо мной, и в тот же миг, как ее рука вцепилась в мое ухо, я вскочил, как собака, на которую пролили кипяток.
— Люди, гляди, еще до зари на работу вышли, — зазвенел в полную силу голос хозяйки. — Мать за юртой кожи мочит, сестра с Дондуком лес рубит, а ты разлегся, щенок! Ну, живо! Дров сюда. Мигом разведи огонь!