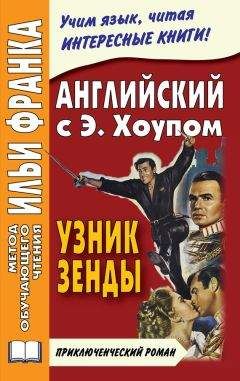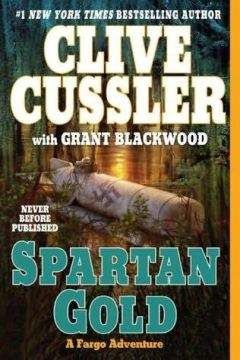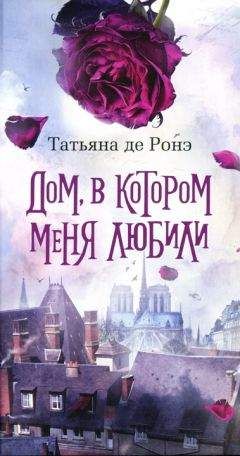Ласло Немет - Избранное
В большом цикле социальных драм, писавшихся в течение последующего десятилетия, — «При свете молний», 1936. «Под каблуком», 1938, «Черешнеш», 1939, «Пансион Матиаса», 1940, «Победа», 1941, «Самсон», 1945, — Немет в различных ракурсах, общественном, личном, семейном, рассматривает этот важнейший в его собственном писательском кредо мотив.
Параллельно, в середине тридцатых годов, Немет предпринимает попытку в грандиозном эпическом полотне раскрыть генезис своего лирического героя, его нравственное становление, поиски полезного дела, причины и социальный смысл его неотвратимого крушения. Он задумывает опять — на сей раз не публицистическую, а художественную — «энциклопедию венгерской жизни», семитомную эпопею «Последняя попытка». «На примере одной трагической судьбы я хотел бы подвести последний итог всему, чему сам еще был свидетелем», — писал Немет о замысле этого биографического цикла романов, в которых должны были найти место проблемы, настроения всех слоев венгерского общества первой трети XX века, главные направления мыслей и интересов, быт, культура, образ жизни. Немет издал четыре романа из задуманного цикла; его герой Петер Йо — сын зажиточного, но необразованного крестьянина; преодолевая сопротивление среды, он становится истинным интеллигентом, считает своей миссией неустанную помощь соотечественникам, людям одной с ним судьбы, одних корней. В четырех романах эпопеи, увидевших свет, рассказывается о становлении личности героя, о его поисках пути и нравственной подготовке к исполнению взятого на себя долга. Самая трагедия Петера Йо осталась ненаписанной, но она угадывается в судьбах его духовных братьев, героев уже созданных или создававшихся одновременно произведений.
Любопытно, что герой эпопеи Немета носит фамилию Йо (Jó) — здесь нельзя не заметить откровенной переклички с фамилией героя знаменитейшего романа Жигмонда Морица (1879–1942) «Счастливый человек»[1], Дёрдя Йо (Jóo). Дёрдь Йо в отличие от своего более позднего однофамильца относится к числу тех «трех миллионов нищих», тех «безземельных Яношей», которым в горестной социологии Немета отведено место в «низах нации». Этот «счастливый человек» — один из самых трагических образов венгерской литературы XX века. Со дня появления романа Морица в 1935 году имя Дёрдя Йо стало нарицательным, взывало к попранному чувству справедливости. Дав герою «Последней попытки» — первый роман эпопеи, «Телеги в сентябре», вышел в 1937 году — имя Петера Йо, Немет со всей очевидностью сознательно делал его побратимом обездоленного и униженного своего предтечи.
В предвоенные и военные годы, видя все более реальную угрозу закабаления Венгрии германским фашизмом, Немет, как и многие другие, бросался из одной крайности в другую, судорожно искал спасительного пути. Еще менее, чем когда-либо, верилось ему в возможность противостоять фашизму в плане социальном — особенно для Венгрии, такой крошечной посреди европейского разгула реакции; единение левых сил, за которое выступал целый ряд таких близких ему по духу крестьянских писателей, как Жигмонд Мориц, Петер Вереш, Йожеф Дарваш, представлялось ему карточным домиком, воздвигаемым в тщетной надежде уберечься от свирепого урагана. С мрачным отчаянием он искал прибежища в «исконной трагедийности мадьярской судьбы», пытался противопоставить идеологии германского расизма свой доморощенный национализм, сквозь его призму обращался к национальным культурным традициям, выпячивая «обособленность, исключительность мадьярства» (сборник статей «В меньшинстве», 1939). В эти годы Немет не сомневается в близости гибельного для Венгрии часа и уповает на одних только «глубинных мадьяров», то есть на тех, кто эту «особость» чувствует, а среди них — на сознающих свой национальный долг писателей, которым надлежит сберечь венгерскую культуру, «венгерскую душу» в надвигающейся тьме.
Разумеется, эти вызванные отчаянием и пессимизмом «теоретические» воззрения Немета объективно наносили ущерб общему делу прогрессивных сил венгерского народа, которым и без того очень трудно приходилось в их неравной борьбе. Но справедливости ради надо сказать, что даже в эти годы художественное творчество Немета по самой сути своей было иным. Да и в публицистических произведениях тех же лет он не раз приходил к выводам, прямо противоположным этим умозрительным построениям. Так, в 1941 году он писал: «У большинства из нас цель была одна: из числа способной самокритично очиститься интеллигенции и поднимающихся к самосознанию рабочих и крестьян создать новую политическую нацию с более справедливым общественным договором». Немет говорил это не голословно: его художественное творчество этих лет было призывом к интеллигенции стать деятельной помощницей своему народу, разрушать классовые перегородки и предубеждения; его участие в движении, возглавленном Ж. Морицом, за создание демократических школ-интернатов (чему несколько лет спустя, в романе «Эстер Эгетё», он посвятит немало ярких страниц) также диктовалось стремлением, пусть в той обстановке идеалистическим, изнутри ломать структуру классово-антагонистического общества.
В этих метаниях между отчаянием и надеждой застал Ласло Немета переломный 1945 год. Депрессия, неверие в близость коренных перемен, усугублявшиеся болезненным состоянием здоровья, продолжали мучить его и теперь, но все чаще испытывал он приливы жизненных сил, желание действовать, способствуя нарождающемуся новому дню своего народа. Он разрабатывает демократические принципы всеобщего обучения («Упорядочение просвещения», 1945) и решительно заявляет, что предлагаемая им реформа — «родная сестра разделу земли, национализации промышленности, кооперативному движению; более равномерное пестованье талантов поможет сломать все социальные перегородки, покончит с привилегиями».
Взявшись преподавать в женской гимназии Ходмезёвароша, Немет обучал своих воспитанниц нескольким предметам одновременно, применяя на практике мысль о взаимосвязанности и взаимопересекаемости различных областей знания, именно в целом образующих культуру народа.
В эти же годы Немет много переводил — он владел несколькими языками, свободно читал по-русски. Перо признанного крупнейшего венгерского стилиста своего времени дарило читателям произведения Л. Толстого и Пушкина, Гончарова и А. Толстого, Горького, Шекспира, Клейста, Ибсена, многих других. Русская литература занимала в этом списке самое большое место. За перевод «Анны Карениной», который и поныне считается в Венгрии классическим, а также за перевод романа Закруткина «Плавучая станица» Ласло Немет получил в 1952 году премию Аттилы Йожефа. Позднее Советское правительство наградило его орденом «Знак почета» за высокое художественное мастерство переводов классической русской и советской литературы.
В 1947 году Немет закончил начатый в первые годы войны и тогда же частично публиковавшийся роман «Отвращение». Еще один яркий и принципиально новый женский образ, созданный Неметом, прочно вошел в венгерскую литературу. В отличие от Жофи Куратор, утонувшей в навязанном ей одиночестве вопреки истинным своим потребностям и склонностям, Нелли Карас совсем иной человеческий тип: для нее, женщины холодной и по биологическому складу, одиночество — не внешнее, не вынужденное пристанище самолюбивой, но не способной за себя бороться души, а истинно желанное убежище болезненно обостренной гордости, которая решительно не приемлет мир с его грязью, оскорбительной суетностью, животными радостями. Многие критики назвали этот роман «потрясающим проникновением в тайное тайных фригидной женщины», другие же, соглашаясь с первыми в высокой оценке писательского мастерства и тонкости психологического анализа, разглядели в произведении Немета много больше — и искусное изображение межвоенной венгерской провинции, и отстаиваемое героиней право на индивидуальность, на свой нешаблонный путь в жизни. И еще — исподволь возникающую тему, диалектически противоречивое единство: несомненное благородство стремящейся к абсолюту нравственной чистоты, с одной стороны, а с другой — ее жестокую отстраненность от всего живущего, то есть ее недоброту. Роман написан от первого лица, Нелли Карас рассказывает о себе без посредника, с предельной прямотой и достоверностью переживания, словом, способность автора проникнуть в самые тайники человеческого, женского сердца здесь столь глубока, что поражала читателя даже после уже известных ему аналитических исследований женской души в романах «Траур» и «Мои дочери» (1943).
В 1948 году Немет закончил следующий роман, которому, по замыслу автора, надлежало восполнить то, что оборвалось на полпути в «Последней попытке», а именно — довести до конца «энциклопедию венгерской жизни» первой половины XX века. Названный по имени героини, роман «Эстер Эгетё»[2] действительно является произведением эпическим, в нем, как в классическом семейном романе, перед читателем проходит несколько поколений с их судьбами, окружением, отношением к миру, реальным и мнимым в нем местом. Опять, в который уж раз, главным лицом романа Немета оказывается женщина, чья судьба и самая личность выписаны с огромным вниманием, чуткостью, проницательностью. И — безусловным сочувствием. В странном отличии от обычной ситуации в пьесах Немета, где женщины выступают тупой и злой силой, заставляющей незаурядную личность героя отступаться от своих идеалов (такова и жена Эндре Хорвата из «неженского» романа «Вина»), героини «женских» романов Немета — и Жофи Куратор, и Нелли Карас и прежде всего Эстер Эгетё — одарены какою-то подлинной личной силой, которая остается силой даже тогда, когда носительница ее, как, например, Жофи Куратор, фактически гибнет.