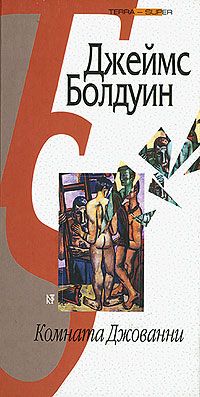Джеймс Болдуин - Комната Джованни
Однажды ночью, напившись где-то за городом и возвращаясь домой с приятелями, я разбил машину. Это произошло полностью по моей вине. Я едва держался на ногах и был совершенно не в состоянии сидеть за рулём, но остальные не видели этого, поскольку я принадлежу к той породе людей, которые на вид и по голосу похожи на трезвых, в то время как на самом деле готовы рухнуть замертво. На прямом и ровном участке дороги что-то странное произошло с моей способностью реагировать на окружающее, и машина вдруг вышла у меня из-под контроля. И тогда телефонная будка, белая, как морская пена, вырвалась мне навстречу из кромешной тьмы; я услышал крики, а затем – тяжёлый, ревущий скрежет. Потом всё стало алым, потом – ярким, как солнечный свет, и я погрузился в неведомый мне до тех пор мрак.
Наверно, я начал приходить в себя, когда нас везли в больницу. Смутно припоминается движение и голоса, но всё казалось таким далёким и не имеющим ко мне никакого отношения. Потом, уже позднее, я очнулся в каком-то месте, которое показалось мне самым сердцем зимы: высокий белый потолок, белые стены и тяжёлое ледяное окно, которое, казалось, нависло надо мной. Должно быть, я попытался подняться, поскольку мне запомнился страшный гул в голове, а потом – давление на грудь и огромное лицо надо мной. И когда это давление и это лицо начали толкать меня назад, я закричал, зовя на помощь маму. Потом снова стало темно.
Когда я окончательно пришёл в себя, у кровати стоял отец. Я знал, что он здесь, до того как увидел его, до того как сфокусировал взгляд и осторожно повернул голову. Увидев, что я очнулся, он тихонько приблизился к кровати, показывая руками, чтобы я не двигался. Он выглядел очень старым. Мне хотелось плакать. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга.
– Как ты себя чувствуешь? – прошептал он наконец.
Попытавшись заговорить, я впервые почувствовал боль и сразу испугался. Он должен был увидеть это по моим глазам, поскольку сразу заговорил с болезненной и чудесной силой в голосе:
– Не беспокойся, Дэвид. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо.
Я ничего не мог произнести и только смотрел на его лицо.
– Вам, ребята, страшно повезло, – сказал он, стараясь улыбнуться. – Тебя покорёжило больше других.
– Я был пьян, – вымолвил я наконец. Мне хотелось всё ему рассказать, но говорить было настоящей пыткой.
– А тебе не может… – спросил он совершенно растерянно, поскольку именно в этом вопросе он имел полное право растеряться, – не может прийти в голову что-нибудь поумнее, чем пьяным садиться за руль? Ведь может! – сказал он строго и прикусил губу. – Вы все могли погибнуть.
У него дрогнул голос.
– Прости меня, – сказал я неожиданно для себя. – Прости.
Я не знал, как сказать, за что я прошу прощения.
– Ничего, – сказал он. – Просто будь осторожнее в следующий раз.
Он мял в руках носовой платок. Потом развернул его, наклонился и отёр мне лоб.
– У меня только ты на свете, – сказал он со смущённой и горькой ухмылкой. – Береги себя.
– Папа… – произнёс я и заплакал. И хотя это было ещё большей пыткой, чем говорить, я не мог остановиться.
Лицо у него вдруг исказилось. Оно стало страшно старым, но в то же время совершенно и беспомощно молодым. Помню, что я – в недвижном и холодном центре закипавшей во мне бури – был потрясён тем, что отцу больно, всё ещё больно.
– Не плачь, – сказал он. – Не плачь.
Он водил мне по лбу этим дурацким носовым платком, будто в нём заключалась какая-то целительная сила.
– Не о чем плакать. Всё будет хорошо. – Сам он почти плакал. – Всё ведь в порядке, а? Разве я сделал что-нибудь не так?
И он продолжал водить мне по лицу носовым платком, лишая меня воздуха.
– Мы напились… напились, – твердил я, будто это могло каким-то образом всё объяснить.
– Твоя тётка Элин говорит, что это моя вина, – сказал он. – Она говорит, что я плохо тебя воспитывал.
Он убрал, слава богу, свой платок и слабо пожал плечами.
– У тебя что-то есть против меня, а? Скажи мне. Слёзы начали сохнуть у меня на лице и в груди.
– Нет, – сказал я. – Нет. Ничего. Честно.
– Я делал всё, что мог, – сказал он. – Действительно всё, что мог.
Я взглянул на него. Тогда он в конце концов разулыбался и сказал:
– Ты должен пролежать здесь какое-то время, но, когда тебя привезут домой и пока ты будешь оставаться в постели, мы обо всём поговорим, ага? И постарайся подумать о том, что нам с тобой делать, когда ты поднимешься на ноги. Идёт?
– Идёт, – ответил я.
Потому что понимал в глубине души, что мы никогда толком не разговаривали и теперь уже никогда не будем. И понимал, что он никогда не должен об этом знать. Когда я вернулся домой, он рассуждал со мной о моём будущем, но я уже принял решение. Я не собирался поступать в колледж. Не собирался оставаться с ним и с Элин в этом доме. И мне удалось повернуть дело так, что он поверил, будто моё решение искать работу и устроиться жить одному было прямым следствием его советов, а также плодом его воспитательной работы со мной. Когда я ушёл из дому, отношения с ним стали, конечно, ещё легче, и он никогда не чувствовал себя исключённым из моей жизни, поскольку мне всегда удавалось, когда заходила об этом речь, сказать именно то, что ему хотелось услышать. Потом всё так и продолжалось, потому что образ моей жизни, который я рисовал отцу, был именно тем, в который я сам отчаянно пытался поверить.
Ведь я принадлежу – или принадлежал – к тому сорту людей, кто гордится силой своей воли, способностью принять решение и добиться его осуществления. Но достоинство это, как и большинство достоинств, само по себе двусмысленно. Те, кто верит в силу своей воли и свою власть над судьбой, могут укрепляться в этой вере лишь посредством умелого самообмана. Их решения не имеют ничего общего с настоящими решениями (подлинное решение делает человека смиренным, поскольку он знает, что оно находится в зависимости от бесчисленного множества вещей), но являются изощрённой системой увёрток и иллюзий, сотканной для того, чтобы они сами и мир казались именно тем, чем ни они, ни мир отнюдь не являются. Таковым, разумеется, было и моё, принятое так давно – в кровати Джоя, – решение. А решил я исключить из своей вселенной всё, чего стыдился и что меня пугало. И у меня это здорово получалось, поскольку я не вглядывался ни во вселенную, ни в себя самого, пребывая в состоянии постоянного движения. Но даже беспрерывное движение не исключает, конечно, таинственных случайных остановок и падений, подобных падению самолёта в воздушную яму. И таких падений приключилось немало, и все они были пьяными, все грязными, а одно из них, когда я был в армии, – очень страшным, поскольку связано было с педиком, и парень этот пошёл потом под военный трибунал и вылетел из армии. Панический страх, вызванный во мне этим наказанием, более всего походил на тот ужас, который я видел иногда в потемневшем взгляде другого человека.
А следствием было то, что всё подсознательно связанное с этим страхом я изнашивал в движении, в безрадостных морях алкоголя, в грубой, пошловатой, искренней и не имеющей ровно никакого значения дружбе, изнашивал пробиранием сквозь лес отчаявшихся женщин, изнашивал в работе, которая лишь кормила меня в самом прямом и буквальном смысле слова. Возможно, что, как мы говорим в Америке, мне хотелось найти себя. Это любопытное выражение, мало употребляемое, насколько мне известно, в языках других народов, вовсе не означает то, что пытается означать, а лишь выдает тоскливое подозрение, что что-то оказалось не на своём месте. Теперь я думаю, что, если бы имел малейшее представление о том, что та моя сущность, которую мне предстояло открыть, была всего лишь той, от которой я пытался спрятаться столько времени, я остался бы дома. И всё-таки мне кажется, что в самой глубине души я прекрасно знал, что делал, когда поднялся на борт корабля, отплывавшего во Францию.
2
Я встретил Джованни на второй год моей жизни в Париже, когда остался без денег. В то утро, предшествовавшее вечеру нашей встречи, меня выставили из отеля. Я задолжал не так уж много – всего около шести тысяч франков, но у владельцев парижских отелей особый нюх на бедность, а унюхав её, они делают то, что и любой другой, почувствовавший дурной запах: они выбрасывают источник зловония.
На счете у моего отца были деньги, принадлежавшие мне, но ему не хотелось их посылать, поскольку он надеялся, что я вернусь – вернусь домой и, как он говорил, осяду; и всякий раз, когда он повторял это, я представлял себе какую-то тину на дне стоячего пруда. Тогда я был мало с кем знаком в Париже, а Хелла была в Испании. Большинство моих знакомых принадлежали, как иногда выражаются парижане, к le milieu,[2] и, хотя это milieu принимало меня, конечно, с распростёртыми объятиями, я старался доказать и им, и себе, что не принадлежу к их кругу. А достигал я этого тем, что проводил с ними много времени и проявлял по отношению ко всем такую терпимость, которая, думаю, ставила меня вне подозрений. Я написал друзьям, разумеется прося у них денег, но Атлантический океан глубок и широк, а деньги совсем не рвутся к нам с другого берега.