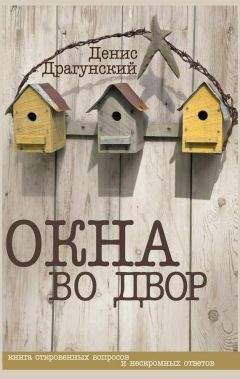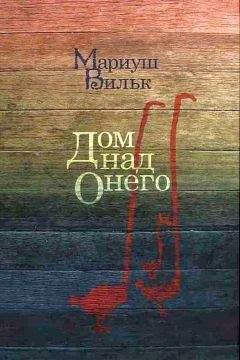Мариуш Вилк - Дом над Онего
Сны Клюева перекликаются с этой традицией. Поэт видел, например, парусник с русскими святыми, которые покидали российскую землю, оскверненную большевиками. В другом сне встретил в чистилище Николая Гоголя, замаливавшего грех гордыни. А в самом знаменитом своем вещем сне увидел самого себя на полевой дороге: высокое место, вид на тысячу верст вокруг, и повсюду засуха — ни ручья, ни речки. Русские реки ушли поить узбекский хлопок, а среди камней остались лежать лишь трупы осетров, белуг и кашалотов, обратив вздутые брюха в пустое белое небо. Сон был записан в апреле 1928 года. Идея повернуть сибирские реки на юг осенила большевиков позже.
Неудивительно, что для многих Клюев был не только выдающимся поэтом, но и своего рода святым. Я знаю физика, то есть человека, казалось бы, рационального, который совершенно убежденно говорил, что ежедневное чтение «Песни о Великой Матери» излечило его от рака. А профессор Маркова молится перед портретом Николая Алексеевича, стоящим у нее в красном углу.
Праздник Корбы, лесного духа
Интересную историю прочитал я недавно в книге Ивана Костина «Остров сокровищ». Вынесенный в заглавие остров — разумеется, Кижи. Костин рассказывает о знаменитой династии сказателей былин Рябининых, живших на кижском погосте. Начало ей положил легендарный Трофим Григорьевич[167]. Тот самый, который пел для Рыбникова, засвидетельствовав тем самым, что русский эпос в Заонежье хотя и фрагментарно, но сохранился. Рябинины, как большинство жителей Заонежья, были староверами, хотя… Вот-вот! Костин пишет, что сын Трофима Григорьевича Иван Трофимович, сурово соблюдавший законы старого обряда — ел и пил только из своей посуды, в церковь не ходил, попов не жаловал, а если кто-нибудь из них случайно забредал к нему во двор, скрывался в своей светелке (комната на чердаке, служившая раскольникам молитвенной кельей) и не покидал ее, пока нежеланный гость не удалялся, — так вот, этот Иван Трофимович каждое утро совершал языческий ритуал перед священной сосной, росшей у дома, почитая в дереве Корбу, лесного духа. День Корбы — первое воскресенье июля — в доме Рябининых праздновали в память о языческих богах, преследуемых православной Церковью.
Раньше примеры такой «двойной» веры в Заонежье можно было встретить довольно часто. В церквях били поклоны перед иконами христианского пантеона, дома приносили жертвы языческим духам Природы.
* * *Для Клюева лес был храмом. В лесу листья мерцают на ветках, словно пламя церковных свечек, кроны берез белеют в лесном сумраке, словно бледные лица послушников, потом приходит осень и, как по волшебству, появляется золотой иконостас, а наша жизнь тлеет перед ним тихо, точно лампадка. Словом, Николай Алексеевич придал Природе сакральное измерение, которого недоставало в церквях, созданных руками человека. Озера принимают в его поэзии схиму, лес надевает куколь (монашеский капюшон); край бора — это притвор церкви, облака — ризы, роса — святая вода, осенние травы молятся золотом, сосны источают ладан, сосна читает псалтырь, в елях плачут херувимы, слезы их капают в лесные ручьи, иволги истошно орут псалмы, а полярное сияние расцвечивает киноварью иконы…
Олонецкий ведун не исповедовал две веры, как бывало в Заонежье. Он выстроил свой собственный «еловый храм о многих алтарях». Он был величайшим пантеистом русской поэзии со времен Федора Тютчева.
* * *Христианство, особенно в ортодоксальной форме, выказало неуважение к зримому миру (области нечистых сил) и тем самым обратилось против Природы, которую христианское воображение населяло всякого рода бесами, духами и русалками, подстерегающими (неизвестно почему) человеческую душу. Словно им больше нечем заняться. Это враждебное, а затем утилитарное отношение христиан к Природе привело в конце концов к угрозе экологической катастрофы. Не говоря уже о том, что сегодня мало кто из горожан вообще замечает ее существование. Поэтому стоит — мне кажется! — возродить праздник Корбы, лесного духа Заонежья. И снова начать поклоняться деревьям.
Разгар сезона гостей
Откуда они только не приезжают! Этим летом у нас побывал русский бард из Монреаля и кантор хора собора Парижской Богоматери, пятидесятник Либор с чешских Крконошей, одна фламандка, одна валлийка и три молодых польки из Кракова, а также Кристина из Готландии, Алексей с семейством из Челябинска и антиглобалист Макс Кучинский из российской организации «Защитники радуги» (в надежде уговорить меня принять участие в драке в Гданьске в годовщину «Солидарности», но я отговорился, сказав, что давно играю в другие игрушки), несколько дней гостила у нас студенческая киногруппа из Лодзи и Бартош Мажец[168] из «Жепы», а также Саша Леонов из «Ва-Та-Ги»; заглянули и старики-финны, в 1942 году участвовавшие в оккупации Заонежья и мечтавшие еще раз увидеть эти места перед смертью, три группы москвичей-любителей шунгита, а также целый микроавтобус англичан, прочитавших мой «The Journals of a White Sea Wolf»[169] и по дороге на Соловки заехавших за автографом. Позавчера же нас навестила Елена, дочь Александра Ополовникова[170], умершего одиннадцать лет назад величайшего знатока и воскресителя русской деревянной архитектуры Севера (от Карелии до Колымы!), создателя кижского музея и автора множества книг о древнем искусстве строительства из дерева. Елена Александровна прослезилась, увидев у нас под тополем скамьи, сбитые по проекту ее отца.
Деревья для этих скамей я сам подобрал в лесу — пять кондовых сосен (конда — сосна, растущая на сухой почве, в отличие от мянды, растущей на болоте), мы со Славой ее ободрали, а обтесывать помогали Виталий Скопин с Лешей Чусовым из Уст-Яндомы. Шестиметровые скамьи — без единого гвоздя. Увеличенная в два раза копия тех, что Александр Викторович сделал у себя в деревне Барыбино, — фотографию я нашел в его «Избяной литургии», написанной вместе с дочерью.
На наших скамьях полдюжины гостей умещается.
* * *Александр и Елена Ополовниковы показали в «Избяной литургии» остатки деревянной красоты русского северного дома и его агонию в XX веке. Это действительно молитвенная книга, можно по ней служить панихиду по русской избе. Дух Николая Клюева витает над каждой ее страницей, ибо «Избяная литургия» родилась из духа его «Избяных песен» и продолжает — так сказать — плач поэта по русской деревне.
Авторы утверждают, что русская изба — это Россия в миниатюре. В ее судьбе, словно в зеркале, отражается доля русского человека. Некогда самобытная — ладная (от слова «лад») и основательная — она была своего рода «умозрением в бревнах» (парафраз знаменитой формулы иконы Евгения Трубецкого[171]) и символом деревенской общины. Борьба со старообрядчеством и реформы Петра Первого обезличили ее: деревянные срубы начали «обшивать» досками на городской манер, имитируя столичные каменные строения. Наконец под напором советской действительности русская изба умерла в России окончательно.
Понятие «русская изба» охватывает, по мнению Александра и Елены Ополовниковых, как стиль деревянного зодчества, так и образ жизни на русской земле, сформированной старой православной верой. Экспансия советской власти на русскую деревню привела к разрушению не только ее элегической архитектуры, но и самобытных форм быта. Русский мужик вымер, словно неандерталец. Его место занял спившийся гомо советикус. Александр Викторович не в силах один остановить этот процесс. Ему удалось лишь запечатлеть в эссе и на фотографиях остатки русской старины. Оставить свидетельство.
* * *Николай Клюев своими стихами, которые он вытесывал, словно бревна для сруба, воздвиг памятник русской избе. Не случайно малоразговорчивого мастера плотника он называл тайновидцем. То есть знающим тайну:
Стружка была для него тайным письмом,
Топором он создал поэму свою.
Столярное дело, как и поэзия, — своего рода эзотерическое знание. Плотник исследует тайну дерева, поэт — загадки слова. Все прочее — ремесло, требующее кропотливого ученичества под контролем мастера-Природы. Кедры учат гармонии венцов, капля воды, которая камень точит, — правильному удару топором, а тополя, сплетающие кружева из осенних паутинок, — искусству резных крылечек.
В поэтическом тигле Клюева понятия мутируют, словно в лаборатории алхимика: из дерева рождается деревня, печной столб — шаманское древо жизни, матица (потолочная балка) на нем — Млечный Путь на темном небосклоне потолка, к матице привязана зыбка (колыбелька) — и младенец в ней… колышется. Зыбь — это и волна на Онего, и волнение нивы; мимо стола идет дорога с Соловецких островов в Тибет, в красном углу — «белая Индия» и «мужицкие Веды», за печкой дремлет сизое Поморье, на полатях, как на горе Фавор, «тела белеют озерной пеной», в деревянном нутре комода-кита библейский Иона крестится двумя пальцами по старому обряду, в горшке на печке шумит река Нил, и так далее, и тому подобное. И все это происходит в сердце Клюева. Потому что сердце поэта — «изба, бревна сцеплены в лапу…».