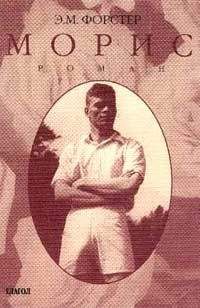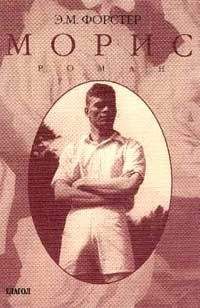Сью Кид - Кресло русалки
– Проституткой?
– Да, но это неинтересно, – ответил Уит, хотя, если честно, я не была столь уверена. – Рассказывают, что после того, как она отрубила палец, она посадила его в поле и из него вырос сноп пшеницы. Нелл могла сажать свой палец, а не хоронить его.
Это предположение заставило меня слегка вздрогнуть.
– Ты думаешь, мать копировала ее?
– В Ирландии было принято так называемое «белое мученичество», – сказал Уит. – Наш аббат постоянно читает об этом проповеди, уверен, что некоторые Нелл могла слышать. Это означает следовать по стопам святых, подражать тому, что они делали.
– Выходит, моя мать, отрубив палец и посадив его, подражала святой, которая сделала это шестьсот лет назад?
У «Золотой легенды» был старый, потрепанный переплет с отвратительным изображением Христа на голове у которого красовалось нечто вроде короны Британской империи. Он поднимал скипетр над головой коленопреклоненных людей с нимбами.
– Когда я начал искать эту книгу, на полке ее не оказалось. Тогда я пошел и спросил отца Доминика. Он открыл ящик своего стола, и она была там вместе вот с этой книжкой. – И он протянул мне книгу под названием «туземные религиозные предания». – Доминик сказал, что брат Тимоти нашел обе книги на кухне сразу после того, как Нелл отрубила себе палец. Она явно взяла их в библиотеке. И в каждой отметила страницу – о святой Эудории и вот эту. – Уит раскрыл вторую книгу на странице с загнутым кончиком и положил ее мне на колени.
Я уставилась на иллюстрацию, изображавшую русалку, вместо пальцев у которой были дельфины, тюлени, рыбы, киты.
– Что это?
– Ее зовут Седна. Она морская богиня. Ей отрубили все пальцы. Все десять.
Я прочитала текст под картинкой: волшебная, хотя и жутковатая история. Молодая женщина извещает отца, чтобы он приехал и спас ее от жестокого мужа. Они бегут на лодке, муж преследует их. Боясь за свою жизнь, отец бросает дочь в море, но она цепляется за борт и не хочет отпускать его. В панике отец отрубает ей пальцы. Один за другим.
Последние два предложения я прочла вслух:
– «Оказавшись в океане, Седна стала могущественной богиней с головой и туловищем женщины и рыбьим или тюленьим хвостом. Она прославилась как „Мать океана", а ее отрубленные пальцы превратились в морских существ, населяющих воды».
Сбоку колонкой был напечатан текст, посвященный числу десять, видимо, потому, что Седна потеряла десять пальцев. Я пробежала по нему:
– «С тех пор десять считается самым священным числом. Пифагорейцы полагали, что оно символизирует возрождение и свершение. Все остальное – производное от десяти».
Я смотрела на изображение Седны: длинные волосы, заплетенные в косы, волевое лицо.
– Не очень-то она похожа на католическую святую.
– Но она могла напомнить Нелл о святой Сенаре, – сказал Уит. – До обращения, когда она еще была Асенорой, русалкой.
Меня охватила дрожь, и он обнял меня и привлек к себе. Какое-то время мы сидели молча. Я больше не могла говорить об этом, представлять себе мать мученицей.
Налетевший ветерок трепал края одеяла. Я заметила, что свет немного потускнел.
– Неприятно, однако мне пора, – сказал Уит.
Он запихнул книги обратно в мешок, завинтил колпачок термоса, сложил одеяло, которое, я не сомневалась, взял со своей кровати. Он делал все это молча, и я следила за его порывистыми движениями, словно разрезавшими воздух, кожа рук была сухой, как ветхий пергамент, длинные загрубевшие пальцы покрыты мелкими мозолями.
Я накрыла его руку своей:
– Тяжело будет петь в хоре и молиться после, после этого?
– Да, – ответил Уит, не глядя на меня.
Когда мы подошли к краю воды, я увидела, что прилив вот-вот пойдет на убыль. Отец назьгоал эти несколько мгновений, перед тем как вода начнет спадать, «каруселью». Однажды, когда мы с Майком играли во дворе, он выманил нас и повел на протоку Кау-кау, чтобы мы посмотрели на это зрелище. Отчаянно скучая, мы глазели на поднимающуюся воду. Майк бросал по воде улиток, будто пускал «блинчики». Когда прилив наконец достиг предела, вся протока словно замерла – ни один стебелек травы на ее поверхности не колебался, а затем, через несколько минут, как по взмаху дирижерской палочки, вся вода закрутилась водоворотом в обратном направлении.
Уит вывел лодку в приток, сворачивавший налево, в протоку. Чайки кружились в небе над нами, а сзади маленький болотный островок понемногу скрывался из виду. Я чувствовала, как Уит снова входит в колею монашеской жизни, океан хороводил вокруг. Неумолимое чередование приливов и отливов.
Глаза двадцать седьмая
Уит
В первый день весны Уит стоял перед офисом аббата, сжимая в руке записку, которую сунул ему брат Беда, письмоводитель аббата. Передавая ее Уиту, он шепнул: «Аббат желает видеть тебя сразу же после хора».
Уит сложил ее, чувствуя, что сердце у него бьется где-то в районе желудка. Закончив молиться, он последовал за братом Бедой через трансепт к офису его преосвященства Энтони. Хотя он и пытался, когда они уже подходили к дверям офиса, угадать по выражению лица брата Беды причину срочного вызова, всматриваясь в его до невозможности узкий лоб и зеленые глаза-горошинки, ему так ничего и не удалось.
– Подожди, сейчас аббат примет тебя, – сказал брат Беда и удалился мелкими торопливыми шажками, полы его рясы волочились по ковру приемной.
Он ждал и, ожидая, напустил на себя мнимое спокойствие, хотя внутри все клокотало.
Услышав резкий, свербящий звук, он подошел к окну. Один из монахов спиливал мертвый мирт бензопилой. Неужели аббат призвал его из-за Джесси? Из-за того, что отец Себастьян прочел в его дневнике, когда приходил в коттедж?
Его преосвященство открыл дверь и кивнул, его ирландское лицо было сурово, на щеках полыхал вишневый румянец. Уит, с легким поклоном, вошел в кабинет.
Над письменным столом аббата висела картина, которую Уит очень любил: изображение Благовещения, на котором Дева Мария настолько потрясена вестью архангела Гавриила о своей скорой беременности, что роняет книгу, которую читала. Книга выскальзывает из ее зависшей в воздухе руки. Губы Девы Марии полуоткрыты, в глазах лани читается изумление и испуг. Уит окинул взглядом картину, впервые заметив гримасу страха на лице Богородицы. Он даже внезапно пожалел ее. Носить в себе Бога. Чрезмерная тяжесть.
Его преосвященство уселся за стол из красного дерева, Уит продолжал стоять. В ожидании. Он упрекал себя, жалел, что все кончится так. Думал о том, как вернется в прежний мир. К фильмам о Рэмбо и Бой Джорджу по радио. К возбужденному лицу Тэмми Фэй Бейкер на телеэкране. Как он сможет вернуться в этот мир алчных потребленцев? В прошлом октябре на бирже произошел обвал, курс упал на пятьсот пунктов – он прочел об этом в газетах, – и это не произвело на него никакого впечатления. Если он вернется в мир, то ему придется думать о финансах, о возобновлении юридической практики.
За окном справа виднелся клин сапфирового неба, и это напомнило ему о птичьем базаре, белых цаплях, тесно сидящих на ветвях деревьев, об их полыхающих белым пламенем перьях. Он подумал, как ему будет недоставать этого.
– Пора бы наметить церемонию принятия торжественных обетов, – говорил между тем его преосвященство. Старик принялся листать страницы настольного календаря. – Я думал о Дне святого Иоанна Крестителя, двадцать четвертом июня, или, скажем, святого Варнавы – одиннадцатого.
– Торжественные обеты? – повторил Уит. Он был совершенно уверен, что его попросят покинуть монастырь. Он собрался с духом, готовясь к унижению. – Торжественные обеты? – снова повторил он.
Преподобный Энтони покосился на него.
– Да, брат Томас. Пришло время подумать о твоем прошении. – В голосе его проскользнули нотки отчаяния – таким тоном учитель разговаривает с рассеянным учеником. Его преосвященство, двумя пальцами взял карандаш и стал тихонько постукивать им по столу, как барабанной палочкой. – Итак. Что до церемонии, то ты можешь пригласить кого захочешь. Твои родители живы?
– Не знаю.
Преподобный Энтони отложил карандаш и скрестил руки на груди.
– Не знаешь? Ты не знаешь, живы ли твои родители?
– Нет, конечно знаю, – ответил Уит. – Мать жива. Я имел в виду, что… – Он посмотрел на «Благовещение», чувствуя, что аббат наблюдает за ним.
Он уже собирался сказать, что не знает, сможет ли принять обеты, но удержался. Он подумал о молитве Томаса Мертона, которую отпечатал на синей карточке и приклеил лентой к зеркалу над раковиной у себя в комнате: «Господь мой и Бог, я совсем не знаю, куда иду. Я не вижу перед собой дороги и не знаю толком, куда она приведет. Не знаю я и самого себя – ведь я только думаю, что творю Твою волю. И может статься, что это вовсе не так».