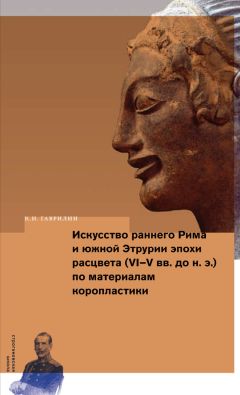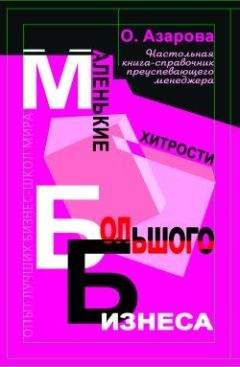Хуан Онетти - Короткая жизнь
— Вы будете спать со мной, — сказала Элена, останавливаясь у входа в гостиницу. — Прежнее кончилось. — Скрестив руки на груди, она огляделась по сторонам, минуя его, и пристыженно засмеялась. — Совсем кончилось. Не знаю, давно ли, я поняла это только что. Но, может быть, у вас иные желания? Я всегда плохо обращалась с вами. Что бы вы хотели?
— Я хотел бы придушить вас, — пробормотал Диас Грей, — слегка.
— Хорошо, идемте, — сказала она, беря его под руку.
Высокая и отстраненная, она пронесла на губах и в глазах мимо конторки привратника, как хрупкий предмет, спокойную улыбку, спящие останки долгой напряженности. Диас Грей не посмел заговорить, не вымолвил ни слова и в поднимавшемся лифте, чувствуя, что он, мужчина, которого держит Элена Сала, до боли сжимая ему предплечье, для нее, помимо олицетворенного изумления, идущего по коридорам и с осторожностью легшего в постель, есть не что иное, как шаткий символ внешнего мира и связи с миром, неподвластный обстоятельствам, насущный для даяния.
VIII
Конец света
Но три ненастных дня пришли, когда я был еще в Буэнос-Айресе; забыв про фарс с рекламным агентством, я все возможное время проводил дома, глядя на серое небо, лужу, которая росла у плохо закрытого балкона, и ощущая, как одиночество сладко подступает к пределу, когда я поневоле увижу себя выделенным, голым, без примеси, когда оно прикажет мне действовать и стать посредством действия кем-то другим, быть может, окончательным, до срока непознаваемым Арсе.
Лежа на кровати, бродя по неубранной комнате, я помогал прекращению своего бытия, своему угасанию, выделял, выталкивал Браузена в сырой воздух, крутил его, как кусок мыла в воде, чтобы растворить.
Ближе к вечеру из-за стены донесся плач Кеки. Я не слыхал, как она вошла, но был уверен, что она плачет одна, на кровати, уткнувшись открытым ртом в подушку. Наверное, и ее давило бремя неудач, воплощенных в дождливом дне, или от сырости плодились «они», или томило предчувствие возникновения Арсе и собственного уничтожения. Она могла догадываться о развязке по внезапному мощному наплыву воспоминаний, которые подходили поочередно и, до невыносимости укрупняясь, становясь жесткими и тяжелыми, сливались и исчезали, на этот раз навсегда — каждое лицо, каждая сцена, каждое пережитое чувство; так что она, как и я, не укроется больше сплетением прежних дней, не выведет из него будущее, и, вынужденная разглядывать одну черту за другой, осязать подлинный, всегда поразительный, всегда неутешительный смысл формы из плоти и костей, наконец-то впервые в жизни познает себя. Но главное — я прислушивался к звуку ее плача — по ту сторону стены были «они», резвые и веселые, как на первом свидании, как простые дети дождливого вечера.
Вероятно, Кека зажгла поодаль от кровати, где плакала и пыталась спрятаться, ночник с красным абажуром, чтобы приманить их, отвлечь от себя, точно насекомых; они порхали и садились, отяжелевшие, пресыщенные, мягкие, хвастаясь своей несчетностью, корча ей, щедрой матери, причине и следствию, милой тотальности, единую гримасу, выражаемую всеми их физиономиями или зыбким пространством, где ее воображение помещало физиономии. Я умру, не увидев их. Возможно, они расположились группой, как у печки на постоялом дворе в ненастную ночь, разнообразием своего роста составляя пирамиду, и, благодарные за пожалованные им кров и пищу, изъявляли свою признательность одинаковой неизменной гримасой, которая растягивает и морщит мягкий жир морды и подергивает круглую дырочку рта.
И только когда она вскочит с постели, чтобы разогнать их затрещинами, когда, разбитая и обессиленная, остановится посреди комнаты, сжав у бедер кулаки, напрягшись, приказывая себе улыбаться, только тогда они заговорят с ней монотонными, назойливо-неутомимыми голосами, которые не добиваются понимания и ответа, а звучат лишь ради собственного удовольствия.
Вот они зовут ее с шипением и свистом у самого уха или с подвыванием из несусветной дали, с замерзших звезд, из морской бездны, где погребена первая кость, зовут равнодушно, нежно, требовательно, умоляюще, насмешливо, серьезно, делят имя на слоги, точно выводя трель, повторяют его до хрипоты, до того, что сами превращаются в имя. «Они мое имя, они Кека, они я сама», — внушат они ей и разбегутся, и, пока она, успокоенная и улыбающаяся, ощупывает себя — «они — это я, никого здесь нет, их нет», — они поджидают ее в постели и будут тыкать в ее тело пальцами, подделываясь под ритм дождя, несильно, только для того, чтобы не дать ей заснуть и держать в страхе.
Последний из трех непогожих дней сменился ночью, она за стеной все плакала — звук приглушался слезами, прилипшей ко рту завесой волос, искусанными суставами пальцев, — когда я решил встать и пожевать на кухне хлебных и сырных корок; я раздавил в руке черный банан и выпил немного воды над могильным запахом холодильника. Может быть, завтра; впредь, видно, не стоит так полагаться на предзнаменования. Но это не я убью ее, это будет другой, Арсе, никто. Я был всем тем, чего уже нет, — индивидуальным воплощением меланхолии, приступами беспредметной тоски, мелкими жестокостями, годными на то, чтобы, причиняя себе боль, узнавать, что ты жив. Разыскав в благоуханиях шкафа пачку писем Ракели, я сжег их одно за другим, не разворачивая, в кухонной раковине. Проходившие перед глазами фразы я читал вслух, не понимая ни их смысла, ни того, что делаю, читал с остановками, тщетно возбуждая в себе печаль: «Дни, когда мама со мной почти не разговаривала. Совершенно так же, как удовольствие быть с ним и остаться одной. Был в Бразилии и рассказал мне о товарище, с которым вместе сидел. После „обращения“ я только и делала, что пыталась убедить в этом маму. Выше и намного умнее меня, но Гертруда никогда не сможет понять. Тут атмосфера полностью менялась, и какое-то веселье… Сидеть на собрании в углу и расплачиваться за то, что мне…»
Открыв кран, я разрушил обугленную бумагу, уцелевшие невразумительные слова, обведенные траурной каймой, усиленные и зловещие. Я вышел на балкон, ступил босыми ногами в дождевую воду и обязал себя думать о поездке в Монтевидео, представлять, как я поддерживаю лоб Ракели, когда ее рвет, как вламываюсь в номер Кеки и разыгрываю сцену ревности, которой она ожидает, которую считает моим долгом.
Кека плакала в перерывах между сонными всхрапами, между нелепыми фразами из писем Ракели. Если бы я, прежде чем сжечь, неторопливо перечитал их, если бы сейчас шел к концу пятый год нашей совместной жизни, все равно было бы то же самое. Струя над хрупкими, иссушенными остатками бумаги, тяжкий и веселый удар воды, черные обломки рассыпаются в прах, крутятся над клокочущим стоком. Она не плачет больше, должно быть, спит, оставив гореть до полудня лампу, которая светит на голую ногу.
Я вернулся в постель, полный решимости уничтожить Диаса Грея, хотя бы пришлось затопить провинциальный город, разбить окно, к которому он прислонился в послушном и обнадеживающем начале своей истории, без интереса озирая пространство между площадью и уступами берега. Диас Грей был мертв, а я без сна лежал на простынях в старческой агонии, слушая журчание воды, которой томно истекали тучи. Я начал покрываться морщинами с той самой ночи в Монтевидео, когда впервые благодаря сводничеству Штейна заключил Гертруду в свои объятия в двухэтажном доме, деревянные стены которого, пропитавшись за двадцать лет брачных ритуалов и семейных торжеств респектабельностью и бессменной идеей «мой мир — мой очаг», сочились приличием и нормами благопристойности; спровоцировал свою старость в момент, когда согласился остаться с Гертрудой, повторяться, приветствовать годовщины, надежность, радоваться дням, которые не будут канунами конфликтов, выбора, новых обязательств. В свой распад я вовлекал Диаса Грея, Элену Сала, мужа, вездесущего беглеца, возведенный мною на склоне город, дружески устремленный к реке. Вместе со мной умирал и едва намеченный конфликт между жителями города и обитателями швейцарской колонии, грузными, энергичными и строгими; между ленивыми креолами Санта-Марии и людьми, которые кормили ее, делая здесь покупки, наезжая толпой по большим праздникам (не тем праздникам, что сами они, их отцы и деды привезли из Европы вместе с твердой волей и надеждой, растрепанными молитвенниками и тусклыми фотографиями, помеченными на обороте датой, а по чужим, не соблюдавшимся ими всерьез, но удостаивавшимся их участия), когда они несмело, со сдержанным возбуждением гуляли по площади и набережной, посещали кинотеатр, торговые кварталы, которые называли центром, где черноволосые мужчины, подпирая спинами стены, насмешливо и не без романтической зависти смотрели на их медленное нарядное шествие семьями, от которых веяло несокрушимостью. Конфликт порождался взаимным скрытым презрением, проглядывая в иронических улыбках и интонациях смуглых людей, в улыбках и голосах, выражавших у блондинов искательность и беспокойство, близкое к неуверенности, когда они меняли в магазинах деньги, покупали автомобили, молотилки и оставляли на столиках кафе, нелюбезно, неискренне, чрезмерные чаевые, в конечном счете только усиливавшие пренебрежение.