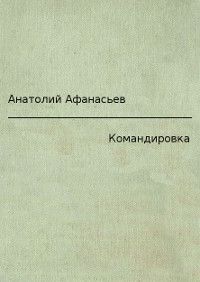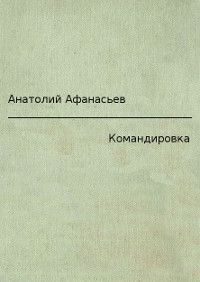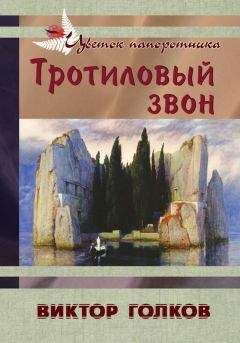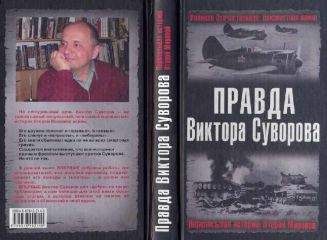Анатолий Афанасьев - Командировка
После этого даже Мика утихомирилась и спрятала куда-то ужасную клизму.
Обедали на веранде за широким деревянным столом, который, как мне торжественно сообщили, был сколочен самим Федором Николаевичем. На обед мясной бульон, запеченный в тесте карп, компот из свежих яблок, всевозможные салаты — все обильно, сытно, вкусно. Ухаживала за мной Мика, с ужимками подкладывала кусок за куском, ложку за ложкой, — она нашла себе в этом новую забаву, новый повод меня поддразнить.
— Что же вы ничего не кушаете, Виктор Андреевич! — вещала она трагическим голосом, шлепая мне на тарелку очередную порцию. — Мама, ну ты же видишь, какой он стеснительный.
Душа общества. Моя воля — надел бы на нее смирительную рубашку. Назло ей, я покорно и с благодарной мордой уминал тарелку за тарелкой, решив скорее лопнуть, чем сдаться. Все уже пили компот, а я обсасывал позвонки третьего или четвертого карпенка. Мика поглядывала на меня с уважением. Ее «почему же вы ничего не кушаете?» звучало все безнадежнее. Рыба-то кончилась, и салаты заметно похудели в салатницах. Чтобы порадовать милую насмешницу, я сверх всего намазал маслом огромный ломоть хлеба и с аппетитом сжевал его, запивая компотом.
Давненько не запихивал я в себя столько пищи зараз, зато уж наемся. Не придется ужинать.
— Хороший едок — хороший работник, — сказал Никорук в раздумье. — А моя пигалица на птичьем молоке живет. Оттого и ленивая неизвестно в кого…
— Для девушки — главное фигура, — пояснила Мика, выпячивая напоказ свою цыплячью грудку.
Я доглатывал хлеб, блаженно ухмыляясь. Время приближалось к четырем, скоро приедет за мной машина.
Что же это товарищ Никорук не торопится? Или он в самом деле пригласил меня во исполнение святых законов гостеприимства? Но нет, как только я проглотил последний кусок, он потянулся, сонно взглянул окрест, покашлял и сказал:
— Ну, детки, вы поиграйте теперь одни, а мы с Виктором Андреевичем ненадолго уединимся. Вы не возражаете, Виктор Андреевич?
— Все было очень вкусно, — поблагодарил я Клару Демидовну, не покривив душой.
Никорук привел меня в свой дачный кабинет — стол, кресло, книжные полки, мягкий диванчик. Пахнет березовой корой. Прохладно, тихо.
Директор усадил меня в кресло, покопался на полках и достал альбом с фотографиями в кожаном переплете.
— Полюбопытствуйте, — подал мне. «Час от часу не легче!» — подумал я. В комнате стало душно от наших раскаленных солнцем тел. Никорук открыл форточку. «Ну ладно, — подумал я. — Будем смотреть фотографии». Федор Николаевич стоял у меня за спиной и давал пояснения. Оказалось, что в альбом собраны снимки, касающиеся исключительно истории предприятия. На первых страницах — пустырь, времянки, группы рабочих с кирками и прочими основными инструментами тех времен. Загорелые, смеющиеся люди. Котлован под основное здание. На пятой странице впервые появился Никорук — трое молодых людей стоят обнявшись и с деревянным вниманием пялятся в объектив. Федор Николаевич посередине — в парусиновых брюках, на голове фуражка, до пояса обнажен. Тело — мускулы и ребра.
Дальше пошли фотографии митингов, собраний.
Везде на трибуне — Никорук. От снимка к снимку директор все явственнее приобретает свой сегодняшний облик. Он уже не смотрит в объектив с любопытством неофита. Строгие костюмы, оркестры. Ликующая толпа. Никорук с восторженной детской гримасой разрезает ленточку у входа в какое-то новое здание. Фотограф ухитрился так щелкнуть, что ножницы получились больше руки — маленький крокодил тянется пастью к тоненькой веревочке.
Наконец последние фотографии. Опять митинги.
На одном из снимков я узнал Перегудова. Группа людей на фоне стены, перехлестнутой полотнищем с лолунгом: «Пятилетке качества — рабочую гарантию!»
На шаг впереди всех Никорук сегодняшний, с белыми бровями. Все. Обложка. Размягченный, наэлектризованный воспоминаниями, Никорук опускается на диван, откидывается на спинку, смотрит на меня, кажется, повлажневшими глазами. Что там — кажется.
Слезы, слезы блестят на ресницах директора. И он их не скрывает, не прячет, не стыдится.
— Этого не спишешь! — сказал Никорук. — Что бы дальше ни случилось — с нами, с вами, с нашими детьми, — это было, было.
Никорук заговорил негромко, доверительно, и я в такт его словам начал понимать, что прямого разговора, который все прояснит, которого так жаждала моя душа, не будет.
— Какие были люди, — говорил Федор Николаевич, улыбаясь с милой застенчивостью ветерана. — Прекрасное время. Столько в него уместилось. Я знаю, много и обид накопилось у моих сверстников, вы, молодежь, о них и не подозреваете. Но я благодарен своему веку. Это он дал нам всем возможность прожить в одну жизнь сотни полнокровных жизней. Столько свершить. Мы жили с такой энергией и страстью, как не жили до нас. Вся Россия так жила — от первых пятилеток, от Октября, до нынешних дней. Позвольте одно наблюдение, Виктор Андреевич. Раньше поколения сменяли друг друга через значительно большие сроки, спокойно, последовательно. А теперь что ни год, ну, три года — новое поколение, иные люди, свежие идеи. Да-с. Даже моя дочь Маша и ее брат родной Сережа — он старше на четыре года — это совсем разные поколения. И это же прекрасно, прекрасно! Время неслыханных скоростей и удивительных превращений. Дух захватывает… Надо уметь услышать, удержаться, идти в ногу. На минуту задремал, зазевался, почил на лаврах и уже отстал, уже не наверстаешь.
Страшно и хорошо. Заметьте, те, кто обижен, кто недоволен, — это все отставшие, зазевавшиеся. Вам неинтересны мои рассуждения?
— Что вы, что вы, Федор Николаевич! — сказал я, встряхнувшись. — Можно закурить?
— Пожалуйста, вот пепельница. А ну-ка и я затянусь табачком. Надеюсь, не помру от одной сигареты.
Скосив глаза на часы, я увидел, что стрелки приближаются к четырем. Директор затянулся глубоко и затушил сигарету, сдавив огонь подушечками большого и указательного пальцев. И не обжегся.
— Нет уж, видно, откурил свое куряка! — он засмеялся, приглашая и меня поиронизировать над его старческой немощью. — Да-а, Виктор Андреевич, время, время, время. Кого хочешь берет за грудки. Оглянешься, бывает, назад: иных уж нет, а те далече. Да и самого себя прежнего не сразу угадаешь… Поверите ли, лет десять тому вызвали меня на ковер к самому…
Что-то там какой-то прорыв у нас образовался, уж не помню. Но разнос, да, разнос, мне был страшнейший.
Как обычно — не положить бы вам билет на стол, не предстать бы вам перед судом, — весь набор. А я, прежний-то, десятилетней давности, битый и катаный, затрясся весь от обиды и ему кричу: а кто вы такой, кричу, чтобы меня пугать! Вы кто — народ? Это я-то, смирный и добродушный, самый покладистый из директоров. И он опешил, а, опешив, вскорости и утих.
Бурю пронесло — сколько их над моей головой проносило, не счесть. А я цел и относительно невредим…
И вот в прошлом месяце опять побывал я в том кабинете, у того же товарища, между прочим, как раз по поводу этого вашего злосчастного узла. Боже мой.
Как все изменилось. Поднимается мне навстречу совсем другой человек обходительный, какой-то тщедушный. И я сам, чувствую, качусь к нему этаким сдобным колобком. Встали мы друг перед другом, глазами хлопаем, оба все понимаем. Он мне говорите «Федор Николаевич, милый вы мой, хорошо, что не надо нам теперь топать ногами, а то ведь, глядишь, рассыпемся оба в прах». Поздравил меня предварительно, обнялись от полноты чувств, а больше по нынешней моде, — и разошлись. Время! Всего-то десять лет не прошло.
Я взглянул на часы — вот это класс! Не иначе школа Перегудова. Директор укладывался к четырем часам тютелька в тютельку. Действительно, время, время! Оставалось всего шесть минут. Значит, мое ответное слово вообще не планировалось.
Федор Николаевич мечтательно разглядывал книжные полки, белые брови сомкнулись на переносице.
Потом, как бы спохватившись, виновато заморгал, обратился ко мне:
— Извините мою болтливость, Виктор Андреевич.
Обрадовался гостю. Вижу, интеллигентный человек, работает под началом моего друга… Да, чтобы уж не забыть… Узел этот. Наладим! Передайте Владлену Осиповичу — наладим. Но сами понимаете — нужно время… Новые проверки, испытания, да что я вам толкую, вы же не мальчик.
— И сколько необходимо сроку, Федор Николаевич?
Меж бровей директора прошуршало легкое облачко недоумения — опасное, грозное облачко, мне сигнал. Не зарывайся! Пробежало и растаяло. Опять солнце, улыбка, радость беседы. Но голос чуть-чуть с железом.
— Что ж, сколько необходимо… Кстати, вы ведь тоже не совсем чисты. А? Приняли ведь узел… Мы были в полной уверенности, что все в порядке. Так нельзя… Впрочем, надо ли считаться, кто больше виноват, кто меньше. Вместе исправим положение…