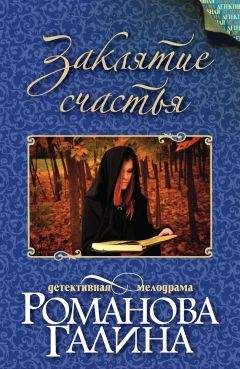Николай Нароков - Могу!
— Не грустите, милый!.. Сегодня что — вторник? А в четверг я вам позвоню, и мы опять увидимся.
Ей было хорошо. Прежние тревоги улеглись, прежние вопросы разрешились сами по себе. Может быть, они ничуть не разрешились, но их для нее как бы не стало, потому что все осветилось и сделалось легким. И даже мысль о «больше» уже не пугала. Юлия Сергеевна по-прежнему твердо знала, что «больше» не должно быть и не будет, но страха перед ним в ней уже не было. И если бы случилось так, что оно пришло, она приняла бы его так, как принимала взгляды Виктора, его неуверенные поцелуи и ласковое пожатье его руки.
Ее останавливал не страх перед «больше», а все то, что неизбежно будет после него. А она знала: будет ложь. Ежеминутная, настороженная, пугливая и засасывающая. Ложь взглядов и слов, ложь мыслей и чувств. Все то, что она будет говорить Георгию Васильевичу, станет ложью, и всякое ее движение к нему станет ложью. «Разве я смогу? Разве я смогу быть такой?» И заранее знала ответ: «Да, смогу! Разве сейчас я уже не лгу? Разве то, что есть сейчас, не ложь?» Но та ложь, которая уже вошла в ее жизнь и в ее дни, ничем ее не смущала, ничего не оскорбляла, а казалась допустимой и словно бы естественной.
Она видела, что концы не сходятся и получается оскорбительное противоречие. С одной стороны, она убеждала себя и была в этом убеждена, что ложь начнется только после «больше», и только после него начнется измена. И в то же время сознавала, видела и чувствовала, что ложь есть уже и сейчас, измена есть уже и сейчас. «Я люблю Виктора и… и я не изменяю мужу? Но ведь я изменила ему уже тогда, когда издали начала думать о Викторе!
Значит, измена уже есть. Почему же я думаю, будто она придет только после «больше»? Почему не мое чувство, а именно это «больше» является изменой? Почему оно и только оно решает все?»
Еще вчера Георгий Васильевич сказал ей:
— Ты в последнее время стала как будто другая… Что с тобой?
Она не смутилась, как смущается пойманная преступница, но свободно повернулась к нему, без усилия подняла голову, посмотрела на него и сказала так просто, что ни тени лжи не было в ее голосе:
— Разве? Почему это тебе кажется?
И когда говорила это, то не видела, что лжет. И только потом увидела, поняла и уверилась: «Все, все во мне лгало: слова, голос, взгляд…» И потому мучилась, заблудившаяся и потерявшая дорогу: какая же ложь будет после «больше», если ложь есть и сейчас? А если она уже есть, то почему же «больше» запретно и преступно? Кто закрыл дорогу к «больше», и что закрывает ее?
Она чувствовала себя так, как чувствует себя новичок, который пробует ходить по канату: каждое движение неуверенно, каждое вызывает страх. Знала: нужно лишь небольшое дрожание каната, лишь ничтожная слабость в ногах, лишь очень легкий толчок, и она упадет.
Этим толчком оказался Табурин. Как три месяца назад он поколебал ее своей «ересью» о разной любви, так и сейчас он пришел словно нарочно поколебать ее «ересью» о лжи.
Он пришел в неурочный час, когда должен был быть на работе. Не открыл, а распахнул дверь и не вошел, а вбежал в комнату. И сразу же заговорил громко, размахивая руками.
— «Безумный день, или Женитьба Фигаро»! А? У меня сегодня безумный день! Даже на работу не ходил! Тысяча и одна ночь!
— Эго почему? — рассмеялась Юлия Сергеевна. — День рождения справляете или нечаянно влюбились?
— Даже ничуть! Не рождение и не влюбился, а… а… А вышло так, что я сегодня с Вальтером закрутил! Знаете Вальтера? Он пиво по лавкам развозит… Превосходный малый, но насчет женского пола — подлец первостепенный! Так я с ним сегодня с самого утра хоровожусь… И он на работу не пошел, и я не пошел! А стали мы с ним по барам шататься!
— Это ж почему?
— Безо всякого «почему», а просто такая линия к нам подошла… Судьба наша, значит, такая! А против судьбы, сами знаете, не попрешь!
— На судьбу все взваливаете? На судьбу легче взваливать, чем на себя! — наставительно заметила Елизавета Николаевна.
— А что же дальше? — заинтересовалась Юлия Сергеевна.
— Дальше? Дальнейшее без слов понятно: там — дринк, там — другой, там — третий! И вот…
Он сделал неопределенный жест, разведя руками.
— Значит, вы надринкались?
— Вполне и безукоризненно! Но вы не беспокойтесь: у меня ведь репутация утешительная, и меня пьяного бояться не надо!
— Какая же у вас репутация?
— А вот какая… Про меня так говорят: чем Борис пьянее, тем он остроумнее и умнее! Да-с!.. Впрочем… — спохватился он. — Погодите! Вы мне раньше скажите, что у вас тут делается? Я ведь сто лет вас не видел, три дня у вас не бывал! Все у вас благополучно? Может быть, что-нибудь сделать надо? Съездить куда-нибудь? Привезти? А?
— Ничего не надо! — попробовала успокоить его Юлия Сергеевна. — Только одно: надо, чтобы вы сели и стали говорить тише.
— Это я могу!
Он упал в кресло и с полминуты шумно отдыхивался. А потом с ожесточением потер себе щеки ладонями и несколько раз энергично тряхнул головой.
— Ф-фу! Значит, все у вас благополучно? Ну, и прекрасно! Георгий Васильевич как себя чувствует?
— Спасибо, хорошо!..
— Ну, и слава Богу! Если хорошо, то это значит — хорошо! И, стало быть, ничего плохого у вас нет?
— Плохо то, — скривилась Елизавета Николаевна, — что ничего хорошего нет!
Табурин выпучил глаза, посмотрел на нее, всплеснул руками и вскочил с места. Поднял руки вверх и с азартом потряс ими.
— Вот! — закричал он. — Вот миросозерцание, мироощущение и мировосприятие! «Плохо то, что ничего хорошего нет!» Да разве можно жить на свете, если вот так воспринимаешь бытие!..
— А как же его воспринимать надо?
— По-моему! Воспринимать его надо по-моему! А именно: «Хорошо то, что ничего плохого нет!» Вот как надо смотреть и видеть! И получается, что мы с Елизаветой Николаевной — два противоположных конца общей мировой оси!
— Ой, как вы сильно выражаетесь, Борис Михайлович! — поморщилась, смеясь, Юлия Сергеевна. — «Воспринимать бытие», «общая мировая ось»… Нельзя ли говорить проще?
— А вы знаете, сколько я сегодня дринков проглотил? Так как же я могу говорить просто? Никак не могу! А кроме того — ведь это библейский стиль! А он мне присущ и… и очень мне к лицу!
— А что вам ваш босс скажет за то, что вы вместо работы пошли по барам шататься?
— Босс? А я завтра ему такое навру, что он мне — «О’кей, Борис!» — скажет и сам со мной в бар пойдет. Уж что-что, а врать я мастер, здорово умею! Вся моя советская жизнь меня врать научила, потому что там «не соврешь — пропадешь!»
— Не выношу лжи! — скривилась было Елизавета Николаевна, но спохватилась и быстро глянула на Юлию Сергеевну. — Конечно, — примирительно добавила она, — конечно, иногда бывает так, что… Но это совсем другое дело! А вообще — ложь есть мать всех пороков.
— И ничего подобного! — взъерепенился Табурин. — Колоссально ничего подобного! Ложь совсем даже не порок!
— А что же? Добродетель?
— И не добродетель, а просто необходимая гайка в личном, семейном, общественном, государственном и мир-р-ровом механизме!
— Ну, вы опять свои ереси начинаете! — заранее рассердилась Елизавета Николаевна. — Я лучше уйду!..
— Нет-с, не уходите, а слушайте! И не перебивайте меня, а то вы никогда не дадите мне слова сказать!
— Да все ваши слова до ужаса еретические! Сплошная ересь!
Но остановить Табурина было уже нельзя. Он поймал мысль, закусил удила и помчался.
— А как же мне не говорить ереси, — запрыгал он на месте, — если в них великая истина сокрыта? Что вы на меня так смотрите, Юлия Сергеевна, будто я вашу любимую игрушку сломать хочу? Не смотрите на меня глазами птички в когтях у кошки, потому что я от такого взгляда заплакать могу, а плакать мне вредно: у меня застарелый ревматизм! И не думайте, будто я пьян! Конечно, я пьян, но — в высшем смысле! И когда я пьян в высшем смысле, тогда у меня в голове мировые пожары начинают пылать, а в душе выспренние бури бушуют, вот оно как! И я тогда становлюсь похож… Впрочем, нет! Наоборот! Не я становлюсь похож, а он на меня становится похож!
— Кто «он»? Говорите яснее!
— Вулкан! Вы только представьте себе: потухший вулкан! — вскочил с места Табурин. — Тысячи лет молчал, миллионы лет молчал и вдруг — заговорил! Извержение! Лава льется, пепел сыплется, земля трясется, и огонь падает с неба! Так вот… Когда такой потухший вулкан начинает извергаться, так он становится на меня похожим!
— Это вы-то перед тем тысячи лет молчали? — иронически протянула Юлия Сергеевна.
— Да-с, я! Я ведь всегда молчу, пока на меня восторг не накатит! И если я сейчас сказал, — всем телом повернулся он к Елизавете Николаевне, — что ложь ничуть не порок, так это не я сказал: это светлый гений во мне заговорил!
— Ересь! Ересь! Нелепейшая ересь!