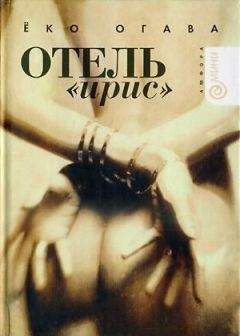Салчак Тока - Слово арата
Проснувшись, я вышел на берег Улуг-Хема и два-три раза нырнул. Потом надел на себя снаряжение и пошел к коричневому дому. На коновязи два коня: на высоком кауром жеребце серебряное седло и уздечка; рядом подвязана низенькая пестрая лошадка. «Видать, это моя», — подумал я, оседлал ее и взнуздал, а вчерашнее происшествие все не выходило из головы.
Меня окликнул старик ямщик:
— Эй, парень, чего задумался? Скорей на коня. Саит уже, видишь, поехал — вон там.
Коновод-ямщик поскакал вслед за Идам-Сюрюном. Я тоже прыгнул на коня. Подумаешь, сейчас догоню! Я побарабанил моего скакуна по бокам — ни с места! Прошелся кнутом — словно в землю врос. Ленивый вол, а не конь. Ушло много времени, пока я трусцой подъехал к переправе у Коктея. Там уже была разбита голубая палатка. Я привязал моего пестрого ленивца и подошел к огню. Хлопоты за поварской чашей были в полном разгаре. Бараний зад с курдюком лежал в чугунной чаше. Вода в чаше бурлила, переваливаясь большими пузырями через курдюк. В палатке Идам-Сюрюн, распахнув халат, угощался аракой из кугеров [76]. Я пристроился к работавшим у костра и вместе с ними поел, прислушиваясь к голосам, долетавшим из палатки. Кроме Идам-Сюрюна, там были Кунга мейрен из Бай-Сюта, Длинный хелин из Чедыр-Аксы, управитель Чозар Парынмы из Сой-Бурена и еще три-четыре бывших чиновника. Сейчас они опять стали у власти и собрались у перевоза, чтобы встретить от имени Салчакского хошуна бывшего нойона этого хошуна, а теперь саита тувинского правительства в Хем-Белдире. Вот почему эти почтенные люди, хотя и не было у них на головах остроконечных шапок с лентами и шишками, приветствовали друг друга по старому обряду, подобострастно глядя в глаза, пригибаясь к земле и простирая руки.
— Что у вас нового, сайгырыкчи?
— Нет ничего, о чем бы стоило доложить, все спокойно и благополучно, мой господин.
— Так, так. А что поделывают деятели партии в нашем хошуне?
На слове «поделывают» было сделано ударение. В голосе спрашивающего звучала насмешка. Один из чиновников ответил:
— Действуют, мой господин. Каждый день устраивают хуралы, забивают и поедают скот у зажиточных людей, добрым людям, как мы, ни в чем не доверяют.
— Ну что ж, приеду в хошун, — обдумаем положение. Пока торопиться не будем, тужуметы.
Идам-Сюрюн уже прикончил не один кугер араки. Бараний зад тоже ушел в него без остатка. Князь не то что посоловел, а чуть на ногах держится. Двое чиновников подхватили его под мышки.
Наконец Идам-Сюрюн закричал:
— Коня мне!
Подвели жеребца под серебряным седлом. Кое-как взгромоздившись, князь тронул поводья. За ним поскакали чиновники. На этот раз мне попалась более послушная лошадь, и я уже не отставал.
Вначале я не слышал, о чем переговаривались между собой Идам-Сюрюн и чиновники, но конец их разговора долетел до моих ушей, и общий смысл я понял.
Один из чиновников спросил:
— Время стало суровое. Как себя лучше вести, господин?
Идам-Сюрюн успел проветриться и ответил довольно внятно:
— Слишком резко выступать против нельзя. Пока приходится считаться со временем.
Тот же чиновник раздраженно воскликнул:
— Выходит, мы должны вытянуть шею и так лежать, господин?
Идам-Сюрюн прохрипел:
— Так уж и лежать! Снаружи надо блюсти порядок, а внутри незаметно идти против него, следить за народом, не смыкая глаз.
Вскоре опять послышался голос князя:
— В каком состоянии мои стада и мое зимнее стойбище в Сой-Бурене? Спокойны ли собаки и птицы, сайгырыкчи? [77]
Чозар Парынма сдержал своего коня и поклонился:
— Скот вашей светлости пребывает в благополучии. Вот пастухи перестают слушаться… Иногда, объявив хурал, забивают и съедают скотину. Такое теперь время, господин.
— Время-то время! Но кто дал им право забивать скот у частных людей? Вот вы, один из начальников хошуна, почему же их не утихомирите?
Посмотрев на меня, Идам-Сюрюн крикнул:
— Эй, ты, Тывыкы, не путайся тут, вперед выезжай! Мы поедем за тобой!
Я выехал вперед, но некоторое время сзади все еще слышались голоса:
— Зазнались эти твари, бедняцкие души! Ну что же, пускай подурят. Мы уж повеселимся, когда придет наш праздник! Тогда мы им покажем.
Перед закатом мы подъехали к Онгача на Чедыре [78]. Сделали привал и зашли в юрту. Было похоже, что хозяева юрты — молодой парень и молодая женщина — только что поженились. Увидев так много людей в нарядной обуви и одежде и к тому же узнав Идам-Сюрюна, они закололи овцу, наготовили всякой еды. Идам-Сюрюн развалился на зеленом шелковом ковре, оголился до пояса. Представители хошуна уселись ниже его, а мы — все прочие — присели у входа в юрту. Хозяйка поднесла на большом деревянном блюде бараний курдюк с большими кусками мяса. Хозяин наточил нож с узорчатой рукояткой и тоже положил на столик перед Идам-Сюрюном. Все начали есть. У шкафчика с посудой сидел старик, поджав под себя одну ногу и вытянув вперед другую. Он угощал всех аракой. Немудрено, что чиновники опять захмелели. Они подняли чаши за здоровье нойона, а Кунга мейрен запел:
В верховьях Ажика стоит каменная баба;
Здесь тьма-тьмущая коней и волов.
В степях пасутся стада нашего нойона,
Здесь тьма-тьмущая золота и серебра.
— Миленький мой мейрен! — Идам-Сюрюн пришел в восторг. Повеселев, он открыто называл сидевших по их старым чинам, словно хотел сказать: «Не так вы еще меня приласкаете, когда я приеду в собственный хошун».
Пир кончился не скоро. Наконец чиновники разбрелись по окрестным юртам, а Идам-Сюрюн остался с молодыми хозяевами.
— Когда займется заря, ты приготовишь мне верховых коней, чего-нибудь попить и поесть, а теперь сидеть здесь тебе нечего, живо двигайся. Ну, уходи, — приказал князь молодому хозяину.
Тот поклонился:
— Я… я их светлости постелю постель. Я уж спать не буду. Все приготовлю, что наказала их светлость.
— Не надо, в отдельной постели не нуждаюсь, вместо тебя лягу. Не прячь от человека молодую жену. Давай-ка ее сюда. Пусть она ублажит своего нойона. А сидеть тебе здесь нечего. Живо! — махнул рукой князь.
— Помилуйте, саит, такие вещи теперь отменены. Пожалуйста, не делайте этого, окажите милость, — кланяясь, просил хозяин, едва сдерживая слезы.
— Отменены, говоришь? Какой ты умный стал, а? Иди выполнять приказ.
Я не мог себя сдержать и сказал:
— Вот если бы на своей службе вы так старались саит! Такой позор, такой темный обычай, который уже отменила революция, вы хотите опять вернуть!
Идам-Сюрюн еще сильнее разъярился:
— Молчать бы тебе! Убирайся, проклятый крикун!
Меня охватило негодование. Я закричал:
— Теперь не старое бесправное время! Революция пришла! Прошли те дни, когда вы на Бурене мучили мою мать, сестру Албачи и меня, еще совсем маленького. Старые пытки Второй Великий хурал уничтожил.
Воспользовавшись моим вмешательством, хозяин юрты выбежал. Мне тоже стало противно слушать, как ругается князь, и я вышел.
— А, спасибо тебе, братец, — сказал хозяин. — Желаю тебе всего доброго. Пусть твоя дорога будет чистой и ровной.
На следующее утро мы подъехали к Салчакскому хуре на роднике Эртине-Булак [79] День был удивительно ясный. Небо и земля отдыхали. Легкий ветер шумел в ветвях сосен и лиственниц, окружавших пагоды и кумирни, шелестел в листве берез, поникших над стенами древнего хуре. От священной рощи расходились вдаль барханы с узорчатой песчаной чешуей. На краю рощи из темной воронки сочился еле приметный родничок. От него саженей на сто струился ручей Эртине-Булак. Неспроста его назвали сокровищем: волны песчаного моря никогда не затопят зеленого островка на Эртине-Булаке.
Раковины оповестили народ, что сейчас начнется мистерия «цам» [80]. Людская лава у пагоды забурлила. У ворот пропускали сначала монахов-лам, а за ними прочих мужчин. Если попадалась женщина, то ее в зависимости от наряда и выражения лица либо тихонько отстраняли, либо отгоняли, восклицая:
— Чур-чур! Оммаани патнихом!
С нашим приездом в Эртине-Булак к моему саиту была приставлена монашеская свита, и я получил возможность не только впервые посмотреть ряженый цам, но и убедиться в том, как бывшие представители феодальной Тувы — светские князья — вторгались в дела духовные, в жизнь хуре и его служителей.
Из-за северного крыла пагоды вылетела высокая китайская двуколка. Ее везли десять послушников в ламских халатах. С двух сторон совершали пляску цам ряженые ламы с гонгами, бубнами и деревянными трубами в рост человека. На пляшущих страшные головы-маски: коровьи, овечьи, козьи, верблюжьи, конские, заячьи. Некоторые маски изображали десятиголовых чудовищ, изо рта у них бил огонь.