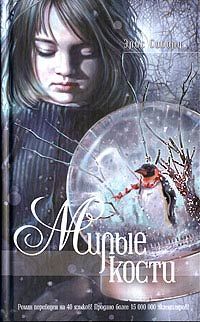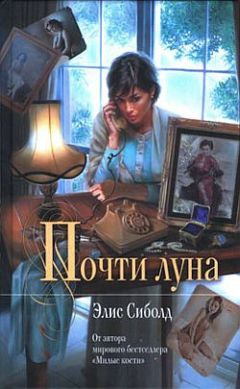Элис Сиболд - Милые кости
— Как умерла твоя жена? — спросила моя мама.
— Покончила с собой.
Волосы падали ей на лицо, и мне почему-то вспомнилось жеманство Клариссы. Если мы с ней, бродя по торговому центру, встречали мальчишек, она начинала нервно хихикать и стрелять глазами — хотела убедиться, что ее заметили. Но не меньше поразили меня мамины красные губы, которые посасывали сигарету и выпускали тонкие струйки дыма. Такой облик я видела один раз в жизни, на той фотографии. Эта мать так и не родила нас — своих детей.
— Почему она наложила на себя руки?
— Этот вопрос точит меня изо дня в день, стоит только отвлечься от таких дел, как убийство твоей дочери.
Мамины губы скривились в странной усмешке.
— Повтори.
— Что именно? — Лен едва удержался, чтобы не обвести пальцем контуры ее рта.
— «Убийство моей дочери», — выговорила мама.
— В чем дело, Абигайль?
— Никто не произносит этого вслух. Даже соседи. Все говорят: «ужасная трагедия» или как-то так. Я хочу, чтобы вещи назывались своими именами. Чтобы хоть один человек высказался открыто. Раньше я была к этому не готова, а теперь — созрела.
Не загасив окурок, моя мама бросила его на цементный пол и обхватила ладонями лицо Лена:
— Ну, говори.
— Убийство твоей дочери.
— Спасибо тебе.
И тут я увидела, как этот плоский красный рот преодолел незримую границу между моей матерью и остальным миром. Она притянула Лена к себе и неторопливо поцеловала в губы. Сперва он опешил. Все его тело напряглось с немым криком «НЕТ», но это «НЕТ» ослабло и потускнело, кануло в решетку жужжащего кондиционера. Она расстегнула на себе плащ. Он положил руку на полупрозрачную материю тонкой ночной сорочки.
При желании моя мама становилась неотразимой. Еще в детстве я замечала, как она действует на мужчин. Когда мы заходили в магазины, продавцы сами выбирали для нее товары по списку и вызывались отнести покупки в машину. Как и Руана Сингх, в нашем квартале она считалась самой красивой мамочкой; каждый встречный мужчина неизменно расплывался в улыбке. Стоило ей обратиться к нему с пустяковым вопросом, как он начинал таять на глазах.
Но единственным, кто мог ее растормошить, развеселить, да так, что дом звенел от смеха, был мой отец.
Подрабатывая сверхурочно и отказываясь от обеденного перерыва, он умудрялся, пока мы еще были маленькими, по четвергам приезжать домой раньше обычного. Если выходные были «семейными днями», то четверг у них с мамой назывался «родительским днем». Мы с Линдси считали, что в родительские дни полагается хорошо себя вести: не врываться к ним в спальню, не беситься, а играть там, где нас не видно и не слышно, — например, у папы в мастерской, которая в те годы почти не использовалась по назначению.
Около двух часов дня мама начинала приготовления.
— Бегом купаться, — нараспев говорила она, будто отпускала нас поиграть. На первых порах это и было игрой. Мы втроем разбегались по комнатам, чтобы переодеться в махровые халаты. Потом собирались внизу и, взявшись за руки, шествовали в розовую ванную.
В ту пору мама любила рассказывать нам мифологические сюжеты, которые изучала в колледже; особенно нравилась ей история про Персефону и Зевса. Еще она купила иллюстрированную книгу по скандинавской мифологии, хотя от этих грозных богов мы плакали по ночам. Мама получила магистерскую степень по английскому языку и литературе, но прежде выдержала нешуточную битву с бабушкой Линн, которая считала, что для девушки это блажь. Когда мы с Линдси немного подросли, она стала отрабатывать на нас полузабытые педагогические приемы.
Сейчас эти сценки трудноразличимы, да и боги с богинями видятся на одно лицо, но я не могу забыть, как маму на моих глазах что-то сотрясало: будущее, к которому она стремилась и которого не обрела, накатывало на нее беспощадными волнами. Мне казалось, что именно я, первый ребенок, отняла у нее мечту.
Сначала мама вынимала из ванны и растирала полотенцем мою сестру, слушая ее болтовню. Затем наступал мой черед. Как я ни старалась помалкивать, теплая вода пьянила нас обеих, и мы выкладывали маме самое важное. Как мальчишки дразнятся, какой у соседей щенок, почему у нас такого нет. А она внимательно слушала, как будто заносила все мысли в тетрадочку памяти, чтобы потом к ним вернуться.
— Так, давайте по порядку, — подытоживала она. — Пункт первый: всем надо хорошенько выспаться!
Я помогала ей укладывать Линдси. Ревниво следила, как она целует мою сестру в лобик и убирает с ее лица пряди волос. С этого момента для меня начиналось соперничество с сестрой. Кого мама ласковее поцелует, с кем дольше побудет после ванны.
К счастью, победа всегда оставалась за мной. Оглядываясь назад, я вижу, что моей маме было одиноко. Это чувство охватило ее почти сразу после переезда в здешние края. И меня, как старшую, она приблизила к себе.
В ту пору я мало что смыслила, но обожала засыпать под тихую колыбельную ее рассказов. У меня на небесах одна из самых больших радостей — возвращаться к этим мгновениям, переживать их заново и быть рядом с мамой, ближе, чем это возможно в детстве. Тянусь через Межграничье и беру за руку мою молодую, сокрушенную одиночеством мать.
Вот что она говорила мне, четырехлетней крохе, про Елену Троянскую: «Стервозная особа, всем карты спутала». Про Маргарет Сэнгер[8]: «Она оказалась заложницей своей внешности, Сюзи. У нее была внешность серой мышки, поэтому молва решила, что ее век будет недолог». Про Глорию Стайнем[9]: «Даже неловко упоминать об этом вслух, но ей давно пора привести в порядок ногти». Про наших соседок: «дурища в обтягивающих штанах», «под каблуком у лицемера-мужа», «типичная мещанка и сплетница».
— А знаешь ли ты, кто такая Персефона? — рассеянно спросила она меня как-то в четверг.
Я не ответила. К тому времени я научилась держать язык за зубами, когда оставалась с ней наедине. В ванной, пока нас с Линдси купали и вытирали, можно было щебетать, сколько душе угодно. Но за дверью моей комнаты наступал мамин час. Расправив полотенце, она вешала его на медную шишку в изголовье кровати.
— Вообрази, что наша соседка, миссис Таркинг, — это Персефона.
Выдвинув ящик комода, мама доставала пару трусиков. Все предметы одежды она вручала мне поочередно, чтобы не создавать стресса. Мама давно подметила одну мою черту: если передо мной заранее поставить ботинки на шнурках, то никакая сила не заставит меня попасть ногами в гольфы.
— На ней длинная туника, ниспадающая с плеч, как белоснежная простыня, только из нежной блестящей материи, скажем, из шелка. На ногах золотые сандалии. Вокруг горят факелы, озаряя все ярким пламенем…