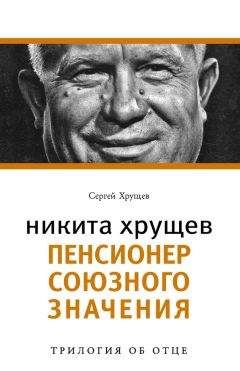Лоренс Даррел - Клеа
На том, ежели не вдаваться в подробности, мои служебные знакомства в то первое душное лето и закончились; и здесь проблем не возникало никаких. Работа была нетрудная и памяти, равно как и души, собою не обременяла. В должности я состоял незначительной и, следовательно, социальных обязательств не имел. А в прочем мы друг друга приятельством в свободное от работы время не обременяли. Телфорд обитал где-то невдалеке от Рушди, на маленькой пригородной вилле, далеко от центра, в то время как Маскелин из своих мрачноватых апартаментов в верхнем этаже «Сесиль» вообще показывался не часто. И, выйдя с работы, я, таким образом, был волен напрочь выбросить ее из головы и слиться без зазрения совести с вечерней жизнью Города, вернее, с тем, что от нее осталось.
В моих новых отношениях с Клеа также никаких подводных камней не предвиделось — может, просто потому, что любого рода дефиниций мы сознательно избегали и дали нашему сюжету волю следовать своей собственной колеей, становиться и расти согласно заданной программе. Я, к примеру, далеко не каждую ночь проводил у нее: когда она работала над картиной и хотела по-настоящему «войти» в работу, ей требовалось несколько дней полного, без исключений, одиночества, — и эти спорадические интервалы, порой в неделю или около того длиной, обостряли нашу с ней привязанность друг к другу, не нанося ей вреда. Бывало, впрочем, и так, что день-другой спустя мы случайно натыкались друг на друга в Городе и по слабости своей и невыдержанности опять проводили время вместе — еще до окончания оговоренных трех дней или недели. Такая вот сложная арифметика.
Бывало, вечером я невзначай выхватывал взглядом на маленькой, ярко разукрашенной деревянной терраске «Бодро» ее одинокую фигурку — она сидела с отсутствующим видом и глядела в пространство. Альбом для эскизов лежал под рукой — она его и не открывала. Она сидела тихая, как кролик, даже забыв стереть с верхней губы тоненькие усики сливок от cafй viennois![70] В такие минуты мне приходилось собирать в кулак всю свою волю, чтоб не перемахнуть через балюстраду и не обнять ее, — настолько живо эта трогательная деталь пробуждала физическую о ней память, настолько по-детски серьезной она выглядела. Образ Клеа-любовницы, как верный пес, тут же оказывался рядом, и разлука с ней казалась бременем просто невыносимым! И, наоборот, на глаза мне (я спокойно сидел с книжкой в парке) ложились прохладные пальцы, и я оборачивался, чтобы обнять ее и втянуть желанный аромат ее тела сквозь хрусткое летнее платье. Или, когда я вот только что думал о ней и еще оставался привкус, она необъяснимым образом появлялась в дверях моей квартиры и говорила: «Мне показалось, ты меня звал» — или еще: «Не знаю, что на меня такое нашло, но ты мне очень нужен». Была в этих встречах острая, до боли сладость, и перехватывало дух, и пыл наш возгорался с новой силой — как будто мы не виделись годы, а не пару дней.
Бездна самообладания, неоднократно проявленная нами в ходе невероятных, с точки зрения Помбаля, экспериментов над собой, вышибала из него искру восхищения — ему такое с Фоской и не снилось. Он, наверное, даже и просыпался с ее именем на устах. Встав с постели, он первым делом звонил ей узнать, все ли в порядке, словно самый факт его отсутствия подвергал ее опасностям — неведомым и неисчислимым. Рабочий день с множеством разнообразных обязанностей и дел был просто пыткой. Он в буквальном смысле слова галопом летел домой на ланч, чтобы снова с ней увидеться. Справедливости ради не могу не заметить, что преданность его была взаимней некуда, и вообще своей умильностью и непорочностью их отношения более всего напоминали роман двух восьмидесятилетних пенсионеров. Если он задерживался допоздна на каком-нибудь официальном обеде, она просто места себе не находила. («Да нет, что вы, дело не в том, что я сомневаюсь в его верности, нет, но вдруг с ним что-то случилось. Знаете, он ведь так беспечно ездит».) К счастью, все это время ночные бомбежки действовали на разного рода общественные мероприятия не хуже комендантского часа; в итоге едва ли не каждый вечер они проводили вместе, играли в карты, в шахматы, а не то читали вслух. Фоска оказалась дамой совсем неглупой и даже с неплохим чутьем; и если ей недоставало чувства юмора — занудой, как она рисовалась мне после первых рассказов о ней Помбаля, она во всяком случае не была. Открытое, подвижное лицо с густой, не по возрасту сетью морщинок — похоже, ей, беженке, и впрямь многое пришлось пережить. Она никогда не смеялась, а в улыбке ее была толика некой задумчивой грусти. Соображала она быстро, и у нее всегда был наготове обдуманный и не без изыска ответ — то самое свойство esprit[71], которое французы вполне заслуженно ценят в женщинах. Тот факт, что срок у нее, судя по всему, подходил, на Помбаля действовал как-то особенно, он день ото дня становился с ней все более внимательным и нежным — какая-то едва ли не гордость светилась в нем по этому поводу. Или он просто пытался вести себя так, словно ребенок этот — его? Своеобразный способ самозащиты от возможных ухмылок в будущем. Не мне было судить. Летом он вывозил ее после обеда в гавань кататься на катере; она сидела на корме, опустив белую руку в воду. Иногда Фоска ему пела, голос у нее был негромкий, но верный, как у маленькой птички. Он тут же приходил в состояние совершеннейшего восторга и, отбивая пальчиком такт, становился похож на этакого добропорядочного bourgeois papa de famille.[72] По ночам они коротали время между налетами, да и сами налеты, за шахматной доской — выбор несколько своеобычный; и, поскольку инфернальный грохот зениток вызывал у него приступы нервической мигрени, он смастерил собственноручно две пары затычек для ушей, вырезав из сигарет фильтры. И теперь они сидели над шахматной доской в полной тишине! Однако раз или два на эту мирную идиллию бросали тень события, так сказать, извне, провоцируя сомнения и дурные предчувствия, вполне понятные в контексте отношений столь туманных — столько раз оговоренных, проанализированных вдоль и поперек, но так и не воплотившихся до сей поры во что-то осязаемое. Однажды я застал его дома слоняющимся из угла в угол в халате и тапочках, он пребывал в подозрительно минорном состоянии духа, и даже глаза у него были — не красные ли? «Ах, Дарли, — всхлипнул он, упав в покойное кресло и вцепившись в бороду так, будто вознамерился и вовсе ее отодрать. — Нам никогда их не понять, никогда. В смысле — женщин! Какое несчастье. А может быть, я просто глуп как пробка? Фоска! Ее муж!»
«Его что, убили?» — спросил я.
Помбаль печально покачал головой.
«Нет. Попал в плен и отправлен в Германию».
«И что же в этом такого ужасного?»
«Просто мне стыдно, только и всего. Я и сам не понимал, покуда не услышал эту новость, и она не понимала, что мы в действительности ждали, когда его убьют. Неосознанно, ясное дело. А теперь она так себя презирает. Но все наши планы, выходит, были построены именно на этом. Это чудовищно. Его смерть освободила бы нас; но теперь вся эта канитель затянется на годы и годы, может, даже навсегда…»
Он был просто раздавлен. Схватив газету, он пару раз автоматически ею обмахнулся и принялся бормотать себе под нос нечто невнятное. «Такие странные бывают иногда повороты, — и внезапно вслух: — Если уж Фоска была слишком благородна, чтобы сказать ему всю правду, пока он на фронте, — ясное дело, что в лагерь она ничего подобного писать не станет. Я ушел, а она осталась вся в слезах. Теперь все откладывается до окончания войны ».
Он более чем внятно проскрежетал зубами и уставился на меня снизу вверх. Я стоял как дурак — а что, интересно бы знать, можно сказать в утешение в подобном случае?
«Нет, а почему, собственно, она не может ему написать и все объяснить как есть?»
«Что ты! Это слишком жестоко. А этот будущий ее ребенок? Даже я, Помбаль, не хотел бы, чтобы она подобным образом с ним поступала. Ни за что на свете. Я застал ее в слезах, дорогой мой, с телеграммой в руке. И она сказала мне с такой мукой: «О Жорж Гастон, я в первый раз устыдилась своей любви — когда поняла наконец, что мы хотели, чтобы он погиб, а не попал вот эдак в плен». Это, может быть, несколько сложновато для тебя, но чувства у нее настолько утонченные — ее чувство чести, и гордость, и все в этом духе. А потом случилась странная вещь. Нам обоим было так больно, и я утешал ее, утешал и сам не заметил, и она не заметила, как мы уже оказались в постели. Картина была, должно быть, более чем странная. Да и технически это ведь не так-то просто. Потом, когда мы пришли в себя, она опять расплакалась и сказала мне: «Вот теперь впервые в жизни я чувствую неприязнь к тебе, Жорж Гастон, и даже ненависть, потому что наша любовь стала теперь такой же, как у всех прочих. Мы ее разменяли». У женщин как-то так удивительно получается ставить тебя в идиотское положение. А я так радовался, что наконец… И вдруг ее слова повергли меня в отчаяние, в буквальном смысле слова. Я просто убежал, и все тут. Я не видел ее вот уже пять часов. Послушай, неужели это конец? Но ведь это могло быть началом чего-то простого и славного, что по крайней мере поддержало бы нас, покуда все не прояснится».