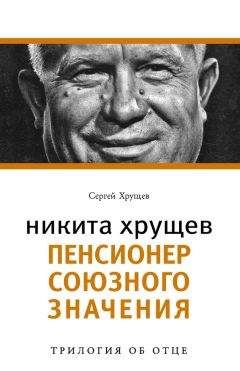Лоренс Даррел - Клеа
Он сильно изменился, хотя привычной внешней элегантности, без которой, в общем-то, и дипломат не дипломат, нимало не убавилось и костюм его подобран был безупречно — ведь даже вольный стиль для неформальных дружеских встреч (подумал я мрачно) для дипломата есть своего рода обязательная форма одежды. Прежняя его внимательность и обходительность при нем же и остались. Но он постарел. Чтобы читать, ему теперь были нужны очки, они как раз и лежали на экземпляре «Тайме» у дивана. Он отпустил усики, но не подстригал их, так что они подчеркивали форму рта и общую холеную мягкость черт. Невозможно было даже представить его во власти чувства столь сильного, чтобы оно в состоянии было поколебать стандартный, доведенный прекрасным воспитанием до автоматизма набор реакций. И, глядя на них обоих, я никак не мог согласиться с теми подозрениями, которые Клеа возымела в отношении его любви к этой странной слепой ведьме, присевшей как раз на диван и уставившейся на меня безглазо, сложив на коленях руки — жадные, хищные руки музыканта. Неужто вот эта женщина и впрямь той самой змеей подколодной свилась в самом сердце мирной жизни сэра Дэвида? Я принял из его рук бокал и, вкусив его теплой улыбки, вспомнил, что когда-то этот человек мне нравился и я его уважал — на расстоянии. Так оно все и осталось.
«Мы оба очень ждали этой встречи с вами, а Лайза в особенности, она считает, что вы можете ей помочь. Впрочем, поговорим об этом позже». И, с очаровательной легкостью пропустив между пальцами истинную причину моего визита, он принялся расспрашивать меня о службе, о том, все ли меня устраивает и доволен ли я своим местом. Галантный обмен любезностями, где вопрос заранее предполагает не только форму, но и суть ответа. Однако же то тут, то там вдруг вспыхивали крупицы информации и в самом деле новой. «Лайзе очень уж хотелось, чтоб вы остались здесь; вот и пришлось нам все это устроить». Почему? Только для того, чтобы ответить ей на дюжину вопросов касательно ее брата, человека, которого, как выясняется, я и знал-то едва-едва и который день ото дня становился для меня все загадочней и загадочней: все менее важен как персонаж и все более — как художник? Было ясно, что мне придется ждать, пока она сама не соизволит дать понять, что, собственно, у нее на уме. А весь этот пустопорожний обмен любезностями начинал уже надоедать.
Однако пустяки цвели и пахли, и, к моему удивлению, сама Лайза участия в разговоре не принимала никакого — ни единым словом. Она сидела себе на диване легко и праздно, как на облачке, и слушала. На шее у нее была надета бархотка: я только сейчас обратил на это внимание. Мне пришло вдруг в голову, а что, если эта ее бледность, так поразившая Клеа, просто оттого, что она лишена возможности делать макияж перед зеркалом, как все? Но что Клеа подметила верно, так это форму ее рта: раз или два я ловил то самое выражение, сардоническое, резкое, — как эхо мимики брата.
Слуга вкатил на сервировочном столике обед, и мы, не переставая болтать о пустяках, сели за стол; Лайза ела быстро, словно и впрямь была голодна, и ни разу не промахнулась — на тарелку ей накладывал Маунтолив, Я заметил, что, когда она тянулась за бокалом, ее выразительные пальцы чуть дрожали. Наконец, когда обед был съеден, Маунтолив с видимым облегчением встал и откланялся. «Я, пожалуй, оставлю вас с Лайзой наедине, поболтаете о том о сем. А меня сегодня вечером в консульстве ждет срочная работа. Вы ведь меня извините, не так ли?» По лицу у Лайзы пробежала тревожная тень, но тут же и скрылась, уступив место выражению иному — безнадежности и смирения разом, будь что будет. Пальцы ее заплели, затеребили — мягко, раздумчиво — кисточку на подушке. Дверь за ним затворилась; она сидела все так же тихо, но теперь уже — неестественно тихо, склонив голову, словно пытаясь расшифровать некое послание, начертанное на собственной ладони. Наконец она заговорила тихо и немного отстраненно, четко выговаривая каждое слово, как будто для того, чтобы я лучше понял смысл сказанного.
«Я и понятия не имела, что так трудно будет все это объяснить, — когда мне пришла в голову мысль попросить вас о помощи. Эта книга…»
Долгая пауза. Я заметил, что у нее на верхней губе выступили маленькие капельки пота, а жилки на висках напряглись и застыли. В порыве сострадания — она откровенно мучилась — я заговорил сам: «Я не могу сказать, что хорошо его знал, хотя виделись мы достаточно часто. Честно говоря, не думаю, чтобы мы с ним очень друг другу нравились».
«Сперва, — резко сказала она, отбросив нетерпеливо все мои общие фразы, — мне казалось, что я должна убедить вас написать о нем книгу. Но теперь поняла, что вы должны знать все. Я, в общем-то, просто не знаю, с чего начать. Я и сама сомневаюсь, можно ли некоторые, скажем так, факты его биографии доверить бумаге и опубликовать. Но мне приходится браться за эти проблемы всерьез, во-первых, по настоянию книгоиздателей — они говорят, что спрос на книгу есть уже сейчас, и немалый, — но главным образом из-за книги, которую пишет, или уже написал, этот ничтожный журналистишка, Китс».
«Китс?» — Вот удивила, так удивила.
«Я думаю, он сейчас где-то здесь, в Городе; но я с ним не знакома. А мысль ему подала жена брата. Она ведь ненавидела его, ну, знаете, после того, что обнаружила… Ей казалось, что наши с братом отношения поломали ей жизнь и так далее. Если честно, я ее боюсь. Я понятия не имею, что она понаговорила Китсу и что он там напишет. Теперь я понимаю, что попросила вас прийти сюда, чтобы уговорить написать о нем книгу, которая… которая каким-то образом отретушировала бы, замаскировала истинное положение вещей. Мне это стало ясно только сейчас, когда мы остались с вами один на один. Для меня будет просто невыносимо, если выплывет что-то такое, что могло бы очернить память брата».
Где-то на востоке зарокотал гром. Она вскочила испуганно и, немного поколебавшись, подошла к роялю, взяла аккорд. Потом захлопнула крышку и опять повернулась ко мне: «Я боюсь грома. Пожалуйста, можно я возьму вас за руку покрепче». Рука у нее была холодная как лед. Затем, откинув со лба свои черные волосы, она заговорила снова: «Знаете, ведь мы с ним были любовниками. В этом и состоит истинный смысл его истории и моей. Он пытался от меня отделаться как только мог. И брак его распался по этой же причине. Может быть, не слишком честно с его стороны было не сказать ей все как есть еще до свадьбы. Странно все получилось. Мы столько лет были с ним счастливы, он и я. В том, что кончилось это все трагически, я думаю, ничьей вины нет. Он пытался освободиться от меня, но я слишком крепко его держала там, внутри, хоть он и боролся отчаянно. Я тоже никак не могла от него оторваться, хотя, по правде говоря, не очень-то и хотела, до того… до того дня — он сам мне его предсказал много лет назад, — когда явился человек, которого он всегда называл „темный незнакомец“. Он увидел его лицо до мельчайших деталей, когда глядел в огонь. Это был Дэвид Маунтолив. Я какое-то время не говорила ему, что нашла свою любовь, роковую любовь. (Дэвид не разрешал мне. Единственный человек, которому мы сказали, была мать Нессима. Дэвид спросил у меня разрешения и сказал.) Но брат, он сам все понял безошибочно. Молчал-молчал, а потом написал мне письмо и спросил, не явился ли незнакомец. Когда он получил мое письмо, ему вдруг стало казаться, что нашим отношениям может угрожать опасность или даже крах, как и собственным его с женой, — не потому, что кто-то что-то сделал не так, а просто из-за самого факта моего существования — тогда. И он покончил с собой. Он все мне объяснил в последнем своем письме. Я помню его наизусть. Он сказал: „Столько лет я с нетерпением ждал этого твоего письма. Часто, очень часто я сам его за тебя писал, выговаривая слово за волшебным словом. Я знал, что в радости своей ты обернешься сразу же и в мою сторону, чтобы поблагодарить меня за все, что я тебе дал, за то, что через мою любовь ты прозрела смысл Любви, и, когда незнакомец пришел, ты была уже готова… И — вот оно, твое долгожданное послание, где сказано, что письма он прочел, и в первый раз в жизни, читая эти строки, я испытывал чувство неземного, невыразимого облегчения. И радость — подобной радости я и не ждал от жизни: подумать только, ты окунулась наконец с головой в жизнь во всем ее богатстве, не связанная более ничем, не скованная навязчивым образом несчастного твоего брата. И я благословил тебя как мог. Но затем постепенно, по мере того как поднималось и рассеивалось облако, я ощутил свинцовую серую тяжесть истины иной, неожиданной и непредвиденной. Это был страх, страх, что, покуда я жив, покуда существую где-то в мире, ты не сможешь полностью освободиться от цепей, в которых я тебя держал все эти годы. Я ощутил этот страх, и меня пробрала дрожь — ибо я знал уже наверняка, что требуется от меня, если тебе судьба меня оставить и начать жить. Я должен уйти, освободить сцену, и сделать это таким образом, чтобы всякого рода двусмысленности, поблажки для жалостливых наших сердец исключить совершенно. Да, эту радость я предвидел, но не знал, что она принесет с собой столь ясную формулу смерти. Как тяжко весят подобные вести! И все же с моей стороны это самый чистосердечный и самый лучший свадебный тебе подарок! И если ты заглянешь чуть дальше, чем прямая боль от моего известия, ты поймешь, сколь безупречна логика любви для того, кто готов за нее умереть“».