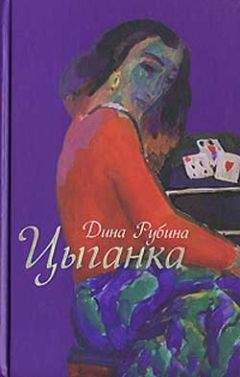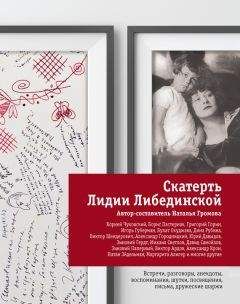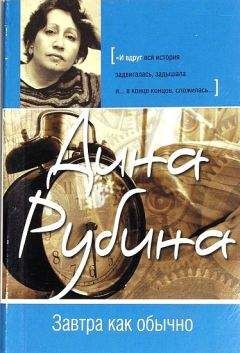Эм Вельк - Рассказы (сборник)
Пастор огляделся.
— А откуда у тебя ключ от колокольни?
— Я ведь знал, где он висит.
— Но как же ты совершенно один справился с колоколом?
— Я ощутил тогда в себе огромную силу, как Антей, как Геракл, как они оба вместе. — Мартин знал, что старого учителя можно задобрить с помощью древнегреческой мифологии.
— Это невозможно, — возразил, однако, пастор, — Антея и Геракла нельзя называть вместе. Разве ты не знаешь, что они были врагами, что Геракл задушил Антея, оторвав его от земли? — Пастор Брайтхаупт вновь овладел собой. — Было бы, пожалуй, уместней, если бы ты поискал примеры в христианской религии.
Поскольку пастор тоже, по-видимому, не нашел в христианской религии подходящего примера, он прибег для объяснения случившегося к другому объяснению, когда час спустя раскрыл прихожанам в новогодней проповеди тайну благостного ночного звона большого колокола.
— Мальчик, сын деревни, услышал божественное веление приветствовать Новый год во славу господню! И хотя он действовал самовольно, даже нарушил установленный порядок, его благочестивый образ мыслей служит полным оправданием необычного поступка. Этот поступок был, к сожалению, до известной степени осквернен беспутным пьянством взрослых жителей этой деревни (да и по всей округе они не лучше), не по-христиански приверженных к земным радостям. Силу, которая повлекла юношу ночью на колокольню, помогла ему в одиночку раскачать большой колокол и извлечь из него такие удивительно прекрасные звуки, я хотел бы назвать spiritus sanctus — святым духом веры. Эта сила содействовала также тому, что очень много грешных жителей этой деревни нашли сегодня дорогу в дом господень.
Церковь в самом деле была переполнена, поскольку разнесся слух, что пастор Брайтхаупт объяснит чудо колокольного звона в ночи.
Мартин Грамбауэр снова на протяжении четырех недель стал героем Куммерова. Пастор Брайтхаупт напечатал в окружной газете, приписав это, так сказать, своему педагогическому таланту, что пятнадцатилетний юноша только благодаря вдохновенной силе веры сумел в одиночку раскачать самый большой в округе церковный колокол.
Пока все же не обнаружилась правда. А именно, что это, как выразился кантор Каннегисер, был вовсе не spiritus sanctus, а совсем не святой, вульгарный спирт. Пастор, кантор, папаша Грамбауэр и сельский староста вели между собой бурный спор, в котором так и сыпались такие выражения, как поношение, осквернение, поступок есть поступок, добрая воля — это добрая воля. Пока Готлиб Грамбауэр не сказал пастору, грозившему сообщить обо всем в городскую школу, где учился Мартин:
— Господин пастор, вы сильный мужчина, можете ли вы один раскачать во славу господа нашего большой куммеровский колокол? Ну, вот видите! А парнишка смог это сделать. И откуда у него взялись силы, от вашего spiritus sanctus или же от картофельного самогону трактирщика Шмидта, — безразлично. Важно, что парень по собственному побуждению звонил в колокол во славу господню! В церковь благодаря этому пришло много народу, и у вас получилась замечательная новогодняя проповедь. Повлияло это или не повлияло? Ответьте мне, пожалуйста!
Вместе с четырехнедельной славой благочестия Мартина Грамбауэра рухнула также и его слава искусного звонаря. Настолько, что он даже не приехал домой на пасху — так ему было стыдно. Куммеровские крестьяне, правда, еще некоторое время хвастались поступком Мартина и его силой, но только потому, что это оправдывало их мнение о благотворном воздействии хорошего пунша.
На троицын день Мартин Грамбауэр, однако, приехал. Маленький и жалкий. В городе и в школе тоже обо всем стало известно, и за опьянением славой последовало тяжелое похмелье. Кантор Каннегисер пригласил Мартина к себе. Он, как всегда, благожелательно улыбался своему бывшему любимому ученику, слушая с трудом дающийся тому рассказ, и сказал:
— Ты говоришь, тебя позвали в ту ночь колокола славы? Мой дорогой мальчик, для того чтобы извлечь мораль из твоего рассказа, как полагается в немецкой литературе, я хотел бы к нему кое-что присовокупить. Видишь ли, колокола славы, даже в более серьезных случаях, не сохраняют своей ценности надолго, прежде всего они не имеют всеобщего звучания. Что кажется кому-то колоколами славы, воспринимается его коллегами большей частью как набатный звон. Завистливые люди яростно нападают на прославившегося и бывают снова счастливы лишь тогда, когда из их набатного колокола и его колокола славы возникнет похоронный звон. И поскольку так ведется в жизни, покуда человек остается несовершенным, представляя собой смесь духовного и материального начала, я говорю тебе, для необычного поступка безразлично, откуда у человека взялись силы, чтобы совершить его: вызван ли его творческий порыв воодушевлением или хорошим глотком вина. Эта история должна научить тебя только одному: не будь тщеславным! Тебе захотелось тогда звонить в колокол, только чтобы похвастаться. Поэтому ты потерпел крушение. Не обычные поступки, а именно те, которые человек совершает во имя высокой цели, потому что должен их совершить, такие поступки поют ему славу сами. И наиболее громко, неподдельно и долго они звучат тогда, когда человек их даже не слышит, потому что не хочет слышать. Вот так-то. И приходи-ка сегодня вечером, я приготовлю хорошую жженку! От нее не бывает никакого похмелья. К тому же мы снова почитаем немного стихи Гердера. — Он подмигнул Мартину. — Может быть, стихотворение о славе, где говорится:
Блажен, кого всеобщий глас
Прославит от души.
Но мне милей, кто всякий час
Творит добро в тиши.
Вдвойне заслугам честь моим,
Коль сам остался я незрим[17]
МОЛОТ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ИМ РАБОТАЛИ
Клеббовский бык
Страницы деревенской хроники
I
Они убирают хлеб на полях, убирают косой, как прежде, как тридцать, как сорок лет назад. Самая прекрасная из всех мужских работ, потому что ведь это широкий взмах косы движет телом, а не тело движет косою. Потому что после ритмичных полукруглых взмахов остается на поле волнистая гирлянда и зерно, падающее на сталь косы, издает чудесное, стройное звучание. Звуки словно становятся зримыми, и надо всем этим — трепещущее сияние летнего солнца. Великолепнейшая мирная симфония.
У леска неподалеку от деревни играют дети, которые еще ничем не могут помочь в поле. За стволами ярко освещенной сосновой рощи исчезает цепочка мальчишек; если вглядеться попристальнее, увидишь, что они маршируют и держат на плечах палки, а если получше прислушаться, то услышишь, что поют они нечто маршеобразное, отдающее тысяча девятьсот четырнадцатым, если не тысяча девятьсот тридцать девятым годом.
И девочки тоже играют и поют как прежде, игра в салочки и в прятки остается неизменной.
Ты, да я, да мы с тобой
Пошли в Клеббов за едой.
Двадцать там стоят домов,
Двести там мычат коров,
И на двадцать едоков
Двадцать там окороков.
Все съедают до костей.
Выходи-ка поскорей.
И ни один чужеродный звук больше не вторгается сюда, маленькие дочки переселенцев уже нашли дорогу домой. Должно быть, у них совсем другие ощущения возникали при словах «двадцать окороков», нежели у девочек из старых деревенских семей. Но девочки вообще ни о чем не думают во время игры, они просто играют в жизнь. Да и мальчишки ни о чем не думают, когда маршируют, они просто играют в смерть. И Генрих Грауманн тоже ни о чем не думает, глядя на них. Единственно, чтобы позлить взрослых, он играет с детишками в жизнь и в смерть.
Генрих Грауманн — крестьянин, лет шестидесяти, громадный, грузный, с сутулой спиной, но с широкими, крепкими плечами. Темные волосы гладкими прядями свисают с его большущей головы, массивный нос без углубления переходит в лоб и разделяет два прищуренных глаза, странно далеко отстоящих друг от друга. Лицо его в любой день недели выглядит так, словно он уже восемь дней не брился. И в воскресенье тоже. Как ему это удастся — его тайна. При ходьбе он старается держаться твердо, прямо и тем самым скрыть, что слегка волочит правую ногу. И при этом он убежден, что никто не смеет смотреть на его ноги, и вдобавок убежден, что все люди, и особенно все не деревенские, смотрят только на его ноги. Случалось, в гостинице или на улице он начинал орать на кого-нибудь из приезжих:
— Что вы там себе думаете — неправда! Если бы мне эти проклятущие гиммлеровские псы не прострелили ногу, я мог бы точно так же скакать, как вы! Я вот скоро на себя табличку повешу и там все это напишу!
А когда испуганные люди останавливались и взглядами пытались что-то объяснить или извиниться, то, как правило, получали еще резкую, язвительную добавку: «Лучше уж ногу увечную иметь, чем голову!» Но все же крестьянин Генрих Грауманн из деревни Клеббов не столь опасен, как юнкер Сирано де Бержерак, хотя сплин у него, пожалуй, посильнее даже, чем у гасконца, у которого всему причиной был только нос. И если кто-то из обруганных спрашивал об этом грубияне, например, у хозяина гостиницы, у бургомистра или просто у школьника, то в ответ всегда немедленно следовало одно и то же: «Этот? Как, вы его не знаете? Да его вся округа знает! Это же Клеббовский Бык!»