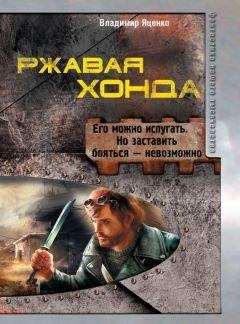Иэн Бэнкс - Мост
Среди обломков товарняка раздается новый взрыв. Когда мы возвращаемся за очередной жертвой, оказывается, что аварийный поезд уже передвинут на пути, подальше от взрывов. Нам приходится нести носилки со стонущим, истекающим кровью мужчиной двести ярдов, к голове товарного состава, и там нас сменяют фельдшеры. Мы снова бежим к пассажирскому поезду.
Следующая жертва, возможно, уже мертва. Из этого человека кровь так и хлещет. Железнодорожный чиновник велит нам нести его не к аварийному поезду, а к соседнему, встречному.
Это экспресс, он тут застрял из-за аварии и возьмет часть пострадавших, чтобы подвезти их к ближайшей больнице. Мы ставим носилки на пол вагона. Похоже на ресторан класса «люкс»; в нем врач ходит от раненого к раненому. Мы перекладываем свою ношу на белую скатерть, полотно тотчас пропитывается кровью. К нам приближается врач, прижимает к шее изувеченного пальцы, держит. Я еще не понял, откуда бьет кровь. Врач смотрит на меня. Он довольно молод, у него испуганное лицо.
— Прижмите здесь, — говорит он мне, и я вынужден держать ладонь на шее раненого, пока доктор куда-то ходит. Мой напарник убегает. Я ощущаю слабый пульс лежащего на обеденном столе мужчины. Его кровь течет по моим рукам, когда я расслабляюсь или стараюсь получше прижать полуоторванный клок кожи к его шее. Я держу, я прижимаю, я делаю, что мне велено, и гляжу на лицо этого человека, бледное от потери крови. Он без чувств, но страдает. С него сорвана маска, которую он всегда надевал перед встречей с миром, и без этой маски он смахивает на какую-то маленькую жалкую зверушку.
— Хорошо, спасибо. — Это вернулись врач с медсестрой. У них бинты, капельница, пузырьки и шприцы. Я больше не нужен.
Я осторожно пробираюсь между скулящими ранеными. Останавливаюсь в пассажирском вагоне, безлюдном и неосвещенном. Мне нехорошо. Присаживаюсь на минутку, а когда встаю, мне удается доплестись лишь до туалета в конце вагона. Там я сажусь. В голове глухо стучит кровь, в глазах пляшут огоньки. Я мою руки и жду, когда сердце придет в согласие с остальными органами. Наконец чувствую, что готов встать, и тут поезд трогается.
Когда он замедляет ход, я возвращаюсь в вагон-ресторан. Там суетятся сестры и нянечки из больницы, принимают носилки. Мне велят не путаться под ногами. Три медсестры и два фельдшера столпились вокруг носилок, которые заносят через ближайшую дверь. На них рожает раненая. Я вынужден вернуться в туалет.
Там я сижу и думаю.
Никто меня не беспокоит. Во всем поезде вдруг становится очень тихо. Раза два его дергает и встряхивает, и я слышу через матовое оконное стекло крики, но в вагоне ни звука. Я иду в ресторан. Его уже не узнать — свежо, чисто, пахнет полиролью. Лампы погашены, в проникающем через окна сиянии моста призрачной белизной отсвечивают столы. А сам мост по-прежнему окутан туманом.
Может, следует сойти? Этого от меня хотели бы и добрый доктор, и Брук, и, надеюсь, Эбберлайн Эррол.
Но зачем? Ведь я способен только дурака валять и притворяться — и с доктором, и с Бруком, и с мостом, и с Эбберлайн. Все это очень мило, а с ней было просто бесподобно, если не считать того крика ужаса…
Так что, сойти? Я ведь могу. А почему нет?
Вот он я, в вещи, которая становится местом, в пути, который становится пунктом прибытия, в процессе, который становится результатом… Я в этом длинном недвусмысленном фаллическом символе, нацеленном к броску из средоточия нашего грандиозного чугунного идола. Как велик соблазн взять да и остаться, то есть уехать. Смело бросить дома женщину и — отправиться в путешествие. Место и вещь, вещь и место… Неужели это действительно так просто? Неужели женщина — это место, а мужчина всего лишь вещь?
Ну конечно же нет, дорогой ты мой друг-приятель. Ха-ха-ха, что за бредовая идея? Все гораздо цивилизованней, чем ты себе возомнил…
И все же (лишь потому, что это мне кажется столь отталкивающим) я подозреваю: в этом что-то есть. В таком случае что же я здесь означаю, сидя в этом поезде, в этом символе? Хороший вопрос, говорю я себе. Хороший вопрос. И тут поезд снова трогается.
Я сижу за столом, гляжу, как мимо несется поток вагонов. Мы медленно набираем скорость, оставляем другой поезд позади. Снова притормаживаем — проезжаем место крушения. Рядом с путями громоздятся товарные вагоны, исковерканные рельсы вздымаются с опаленного настила, как скрученные провода, и дым головешек растворяется в тумане под яркими дуговыми лампами. Аварийный состав стоит чуть дальше, его прожектора светятся. Наш поезд набирает скорость, и вагон, в котором я сижу, тихо подрагивает.
Туман пронизан лучами прожекторов. Мы проскакиваем главную станцию секции, несемся мимо других поездов, мимо трамваев, мимо уличных фонарей, транспортных магистралей и зданий. Мы все еще разгоняемся. Огни редеют, мы почти проехали секцию. Я еще секунду-другую гляжу на огни, затем иду в конец вагона, где находится дверь. Опускаю оконное стекло и выглядываю в туман, с ревом проносящийся мимо меня, с ревом, модулированным неразличимыми фермами моста, и эхом отзывающийся на стремительное продвижение поезда, а характер эха зависит от плотности окружающих ферм и зданий. Позади остаются огни последних домов; я расстегиваю больничный браслет, медленно, болезненно стягиваю его с запястья, лижу там, где застревает, наконец решительно срываю, при этом порезавшись.
Мы пересекаем соединительный пролет. Невидимая граница, до которой меня пускает идентификационный браслет, еще, конечно, далеко. Маленький пластиковый обруч с моим именем. Странное это ощущение, когда его нет на запястье. Оказывается, я уже успел к нему привыкнуть. И теперь словно голый.
Я бросаю его за окно, в туман. Браслет исчезает мгновенно.
Закрываю окно, возвращаюсь в купе. Надо отдохнуть, а там посмотрим, далеко ли я уеду.
Эоцен
…Так что, включен микрофон?
А, вот вы где? Что ж, хорошо… Беспокоиться не о чем, никакой тут не бардак, ей-богу. Наоборот, полный порядок. Все под контролем, на мази и работает как часики. Лучше просто не бывает. «Мы знали все время, что хрень включена». Это цитата из бессмертного… Что-что? Виноват, виноват, цитата из смертного Джими Хендрикса. Ну, так на чем я остановился? Ах да.
Так вот, состояние пациента стабильное: он мертв. Стабильнее, блин, не бывает, правильно я говорю? Конечно, конечно, гниение и все такое.
Я просто шучу, такой уж у меня юмор. Господи боже, некоторые люди совершенно шуток не понимают. Эй, вы там, на галерке! Угомонитесь.
Ну что ж, ребята, двинули дальше (оказывается). Откуда и куда? Вопрос не в бровь, а в глаз.
Рад, что вы его задали. А знает ли кто-нибудь ответ? Нет?
Черт. Ну да ладно.
Куда меня тащат? И главное, за что? Да кто меня спрашивал? Вы, уроды! Кому-нибудь пришло в голову поинтересоваться: «Ты, как там тебя… не возражаешь, если мы тебя переведем?» А? Фигушки! А может, там, откуда я взялся, мне совсем не плохо жилось. Кто-нибудь из вас об этом подумал?
Ну так вот, можно полосовать меня вдоль и поперек, можно отрезать кишки и вшивать новые, можно латать меня и накачивать всем, чем угодно, можно на меня давить и можно меня щипать, а вот чего нельзя, так это меня поймать, так это меня найти, так это до меня добраться. А я — вот он: на недосягаемой высоте, неуязвим, непобедим, командую парадом.
Но злая королева-то какова! Как она могла дойти до такой подлости, до такой низости, до такой пакости, мерзости и гнусности, до недоразумения столь вопиющего? Как она могла опуститься столь низко? (Эка фигня, берешь и сгинаешься, вот так…) Подговорила чертовых варваров восстать против меня! Ха! Неужели ничего поумнее не способна была придумать?
Наверное, не способна. Никогда не отличалась сильным воображением, бедняжка. Может, разве что в койке или еще где-нибудь. Нет, это не правда. Просто во мне живет обида; начистоту так начистоту (обычно с легким, слабым, еле заметным оттенком алого, как мне довелось выяснить… впрочем, не стоит об этом).
И все-таки какое это хамство — поднимать против меня мятеж! Ведь совершенно же без толку, и тем не менее… А сейчас-то что не так? Черт возьми, нельзя уже человеку немного самому с собой поговорить? Обязательно надо его… Опять! Блядь! Да что тут происходит, вашу мать?! Уроды безрукие, за кого вы меня тут держите, а? Это часть…
Ну хватит же, наконец! Ухаб на ухабе! Больно же! Это часть терапии, что ли? Если уж очень захочется, я как встану да как настучу кое-кому по Кумполу — на всю жизнь запомните! Хрясь!!! И хрен зашьешь, Джимми.
Ну, слава Богу, прекратилось наконец. Только небольшая боковая качка, но это пустяки. Как на лодке или еще на чем-то вроде. Трудно сказать.
Нет, это не лодка. Качает помягче. Это что-то на подвеске, с амортизаторами. Скрипит? Слышатся ли мне голоса? (Все время, док. Это они меня подучили. Так что моей вины тут нет. Идеальное алиби, непробиваемая защита.)