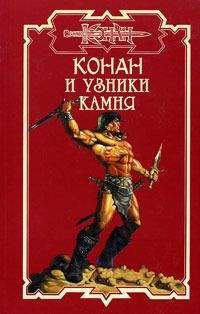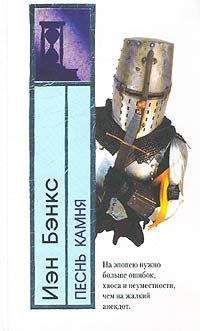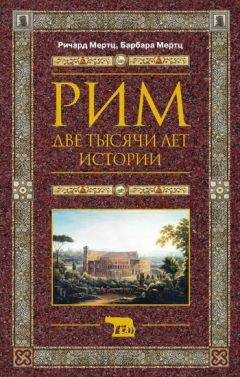Джеймс Олдридж - Герои пустынных горизонтов
На зов Гордона почти все беспрекословно повернули назад: сказались усталость и наступившее пресыщение. Только Бекр продолжал носиться, как одержимый, размахивая своей саблей (огнестрельное оружие он считал недостойным таких подвигов) и похваляясь, что уже зарубил ею сто человек. «Тысячу!» — восклицал он через минуту, боясь, что его заслуги еще недостаточно велики. Али действовал более практично. Он выбрал себе самую лучшую винтовку из сотен валявшихся на песке пустыни. Для этого он перепробовал и отбросил штук двадцать, стреляя по живым мишеням с различных расстояний. Но теперь он был удовлетворен и сразу же послушался приказа. Зато, чтобы справиться с Бекром, Гордону пришлось ухватить его верблюда за повод и, не слушая негодующих воплей всадника, силой привести его на территорию аэродрома.
Когда ему удалось таким образом восстановить порядок и вновь утвердить свою власть, на аэродроме появился бахразец Зейн в сопровождении шести воинов из свиты Хамида. Он спешил сюда, верный данному слову, чтобы предотвратить кровавое побоище, но еще до встречи с Гордоном он достаточно увидел. Они встретились молча; Зейн не произнес обычных приветствий и ни словом не обмолвился о кровавой расправе с его братьями. И по этому зловещему молчанию, по тяжелому вопрошающему взгляду Зейна Гордон понял, что совершил самое большое преступление в своей жизни. Он это понимал особенно отчетливо и ясно потому, что особым чутьем угадывал все мысли этого маленького человека, который был так похож на него самого. Он видел, как нарастают в Зейне боль и гнев, как он мрачнеет, думая обо всей пролитой здесь крови, и страдал за него, понимая, что смерть так же непоправима и мучительна для революционеров Зейна, как и для кочевников Гордона.
— Разве сын пустыни непременно должен быть убийцей? — с горечью вымолвил наконец Зейн, потрясенный страшным зрелищем. В его словах была скорбь, было даже негодование против Гордона, но упрека в них не было. — Почему ты не дождался? — спросил он с тоской.
— А чего было дожидаться? Разве Хамид мог твердо рассчитывать на твою помощь?
Зейн покачал головой. — Я бы не допустил этой бойни.
— А ты думаешь, я допустил бы, если б это зависело от меня? — спросил Гордон.
Большая голова Зейна оставалась неподвижной, но глаза впились в глаза Гордона, как бы испытывая, можно ли ему верить. Во взгляде самого Зейна читалось одно — зачем, зачем, зачем; и все же неожиданный, отчаянный вопль души Гордона встретил в нем отклик. И тут Гордону стало ясно, что маленький бахразец может простить ему почти все благодаря той внутренней связи, которая помогает им понимать друг друга. В этом сказалось переплетение их судеб. Упрек Зейна растворился в их общем горе.
— Ты действуешь очертя голову, Гордон, — тихо сказал Зейн. — Без рассуждений, без мысли, как простой кочевник. Все — сгоряча. Тебе это не пристало, брат.
Гордон сделал еще одну попытку оправдаться: — Я должен был действовать так, потому что только отчаянной решимостью могут племена добиться своего. Ты сам знаешь это. Сам знаешь, что нам некогда задумываться над трагедией твоих бахразских братьев.
Но все доводы звучали неубедительно, и Гордон чувствовал, что на этот раз его двойник одержал над ним верх. Справедливость была бесспорно на стороне Зейна; можно было отмахнуться от нее колкой насмешкой, но это не вернуло бы Гордону утраченного чувства превосходства. То, что бахразец теперь замкнулся в себе, было непоправимо, было навсегда. И тем яснее ощущал Гордон свою ошибку или неудачу.
Взяв Минку и маленького Нури, Зейн отправился в пустыню, чтобы собрать уцелевших бахразских солдат и привести их на аэродром, где теперь было для них безопаснее. Гордон ждал Хамида и мысленно торопил его, понимая, что Азми не станет медлить с карательными мерами. Хамид был уже недалеко, но все же, когда заклубилось в пустыне облако пыли и показались первые ряды всадников, он облегченно вздохнул и возблагодарил небо с пылом невежественного фанатика. Настал долгожданный час.
Две тысячи всадников смешались с людьми Гордона, подхваченные вихрем ликования. Стяги развевались на ветру. Голоса охрипли от приветственных возгласов и пыли, забивавшейся в горло, и в конце концов даже Гордон не выдержал и закричал:
— Ах ты, боже мой! Зевс-громовержец! Да это Ахилл и его мирмидоняне!
Шум, пыль, крики, объятия; пальба и топот; накал страстей, кипение, взрыв — и, наконец, постепенный спад и умиротворение. Властным кивком головы и коротким окриком: «Довольно!» — Хамид водворил порядок. Все стихло; Хамид, послав лазутчиков к окраинам, стал слушать подробный рассказ о происшедшем, а среди войска между тем начался торопливый и жадный дележ добычи.
Хамид слушал и удивлялся свершившемуся. — Конец света, — задумчиво промолвил он, словно всякий менее величественный образ был бессилен передать значительность события и беспримерность совершенного Гордоном подвига. — Но что же дальше? — добавил он с тем же напряжением чувств и мыслей. По-прежнему над ним витали сомнения, и он не мог отогнать их.
Но для размышлений не было времени, слишком многое нужно было взвесить и решить и ко многому приготовиться. И снова Хамид стал весь настороженное внимание и, плотно сомкнув тонкие губы, выслушал всех по очереди. Сначала поэта Ва-ула, который побывал у Талиба, но так и не добился от него обещания отвести воинов племени или укротить их пыл. Потом своих советников, своего брата, своего вероучителя, своих лазутчиков, Гордона, Зейна и, наконец, Смита — единственного, кто знал, как обстоит дело с бронемашинами (и у них и у Азми).
Но прежде чем Хамид успел высказать, что думает он сам о положении и о перспективах, на сцене появилось новое лицо — генерал Мартин. Генерал предпринял рискованное путешествие к Вади-Джаммар в надежде найти там Гордона, но попал в руки оставленных Гордоном патрульных, и те уже несколько дней таскали его за собой по пустыне. Теперь вместо одного Гордона он нашел и Хамида — и в руках Хамида был бахразский аэродром.
Пораженный неожиданностью, генерал тем не менее сердечно приветствовал Хамида. — Очень рад видеть вас, мой высокоуважаемый молодой друг, — сказал он, спеша пожать ему руку. — Слава богу! Вы именно тот, кто мне нужен.
Хамид, чей острый взгляд так хорошо подмечал иронию жизни, всегда и со всеми оставался эмиром; он ответил на энергичное рукопожатие генерала и приказал подать холодной, освежающей воды, кофе и подушку (знак внимания к летам гостя, хотя генерал, приземистый, сухой и небритый, сохранял свой обычный подтянутый вид). Генерал в свою очередь точно знал положенную меру обмена тривиальными любезностями, включая взаимные пожелания здоровья и благополучия. Он все это выдержал не сморгнув и только потом намекнул, что хотел бы побеседовать наедине. Когда Хамид всех отпустил, кроме Гордона, генерал заметил Хамиду, что захват аэродрома был серьезной ошибкой с его стороны. Не следовало заходить так далеко.
Хамид молча кивнул и этим ограничился.
Но генерал продолжал, не пытаясь скрыть волнение: — Вы должны оставить аэродром и уйти, Хамид. Вы должны распустить свое войско, вернуться в пустыню и прекратить это восстание со всеми его жестокостями. — Генерал думал передать свои предложения через Гордона, но теперь он пользовался случаем непосредственно высказать все Хамиду. — Если вы на это пойдете, Хамид, бахразское правительство не станет применять к вам никаких репрессий, мое слово вам в том порукой. Но если вы будете упорствовать, — мне достоверно известно, что легион Азми уже готовится выступить из Приречья, чтобы настигнуть и разгромить вас. Возможно, что он уже на марше.
Генерал посмотрел на Хамида, потом перевел взгляд на Гордона. Они сидели втроем под сенью шатра, где сгущалась в сумрак пастельная дымка предзакатного часа. Гайбат-аш-Шамс. Закат в пустыне. Вечер был близок, в воздухе приятно тянуло прохладой после знойного дня. Генерал вздохнул и на короткое время сменил свою официальную озабоченность на мягкий отеческий тон.
— Я стремлюсь предотвратить не только возможность новых кровавых трагедий, — сказал он убедительно, — но и неизбежную катастрофу, ожидающую двух прекрасных молодых людей. Я не хочу быть свидетелем вашего поражения и гибели.
Как бы Гордону ни хотелось сказать тут свое слово, он знал: отвечать должен Хамид, и отвечать не на излияния чувств, а на предъявленный ультиматум. Однако Хамид предпочел иметь дело с чувствами и сказал, что глубоко верит в искренность и дружбу великого генерала Мартина.
— Мы желаем друг другу только добра. Какая польза для вас, генерал, если легионеры Азми перебьют благородных сынов пустыни? — Длинные пальцы Хамида разжались и застыли в жесте трагического недоумения. — Ровно никакой, — продолжал он. — И вот ваша благородная совесть возмутилась против такого злодейства! И вот вы явились сюда для того, чтобы спасти нас!