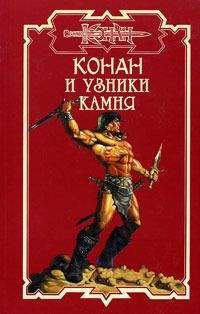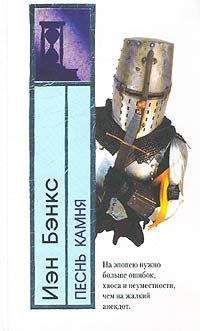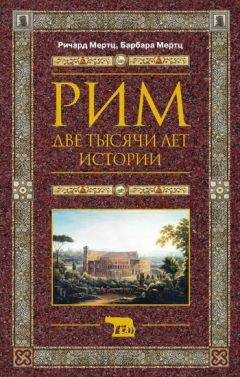Джеймс Олдридж - Герои пустынных горизонтов
Смит махнул рукой, не договорив.
Неподалеку от них протяжно застонал раненый. Это был стон умирающего, в котором уже не слышалось боли, только предсмертная тоска. Гордон посмотрел на него с жалостью, потом с еще большей жалостью взглянул на Смита.
— Бедный Смит, — сказал он, горько усмехнувшись, и ясно было, что он подбирает доводы не только в объяснение Смиту, но и для себя, для того чтоб облегчить собственную боль. — Неужели вы думаете, что двадцать лет жестокого угнетения могут отвалиться легко и незаметно, как увядший лепесток какой-нибудь английской розы? Посмотрите кругом…
— Я смотрю. И не знаю, как на это можно смотреть без отвращения.
Гордон нетерпеливо пожал плечами. — Как вы не можете понять, Смит, что смерть еще не самое отвратительное во всем этом? Ведь гораздо страшнее то, что человек вынужден становиться зверем, сеять смерть, чтобы отстоять для себя хотя бы элементарную свободу? Разве сознание этой необходимости не отвратительней, чем вид крови?
— Не было вовсе необходимости устраивать такую бойню. Это дико, бессмысленно. Вы сами этого не хотели, вы сами говорили, что можно обойтись без этого.
— Я не хотел! Я говорил! Я только дал им повод к насилию, все остальное сделал инстинкт, вырвавшийся на волю. Не во мне тут дело. Взгляните на себя. Вы весь в крови, в копоти, одежда на вас висит клочьями, вы похожи на дикаря; ведь и вы тоже убивали, да еще во имя чужого дела. Они кровожадны, по-вашему? Так ведь и от вас пахнет кровью.
Смит не хотел согласиться с этим. Он растерянно мотал головой, потом вдруг закричал снова; «Посмотрите! Вот сюда посмотрите!» Его осуждающий взгляд указал на араба, который лежал в двух шагах от них, испуская глухие стоны. Этот человек пострадал в самом начале, когда вспыхнули первые палатки, облитые бензином. Он обгорел до полной неузнаваемости, нельзя было даже определить, бахразец это или один из бедуинов. Только услышав стоны, они поняли, что он жив и, должно быть, нестерпимо страдает. Лежал он на боку, съежившись, точно прибитый ребенок.
— Если вам просто тяжело видеть смерть и боль, — сказал Гордон, встав и направляясь к несчастному, — значит, вы еще не знаете настоящих мучений.
Гордон вынул револьвер и прикончил умирающего по-арабски, выстрелом в упор в голову. Стрелял он не глядя и тотчас же вернулся к Смиту, держа револьвер в далеко отставленной руке, как будто это была какая-то гадина.
— Смерть не страшна, — сказал он глухим голосом. — Страшно то, что нужно убивать. Необходимость смерти — вот главное зло!
Смит побрел прочь, содрогаясь от беззвучных рыданий, а Гордон думал о главном зле, и так тяжелы были его мысли, что укоры гипертрофированной совести Смита не рассердили его, а скорей опечалили. Почему-то ему сейчас очень хотелось, чтобы Смит понял все; он и сам не знал почему, разве только, что ему было не по себе от протестов Смита. Но когда и маленький Нури подошел к нему с жалобой, Гордон потерял самообладание.
Маленький Нури взволнованно заговорил о том, что кругом множество раненых и все они стонут и взывают о помощи. Он судорожно вцепился в руку Гордона. — Пойдем, ты должен помочь им. Нужно помочь. Смотри… — Там и сям среди обломков и мусора шевелились жалкие, полуживые тела. — Смотри, Гордон! Смотри, что мы наделали!
Гордон с бешенством повернулся к маленькому сыну пустыни, но такое горе было в кротких глазах Нури, что гнев Гордона сразу утих и он только устало вымолвил: — И ты туда же, дурачок? Теперь ты будешь донимать меня попреками?
— Нет, нет, господин. Но смотри! Смотри!
— Я вижу все! — закричал Гордон. — А ты, если тебе хочется плакать, поищи себе для этого укромный уголок. В пустыню ступай, к своим верблюдам.
Маленький Нури поцеловал его руку и стал просить прощения, но Гордон только велел ему найти Минку и согнать в одно место разбежавшихся верблюдов, пока не случилось новой беды.
Гордон уже отправил людей навстречу Хамиду — предупредить его и поторопить; было ясно, что рано или поздно весть о случившемся дойдет до Бахраза и оттуда вышлют самолеты (если только это возможно) или даже станут подтягивать войска с окраины. Нужно было собрать оставшихся людей, перенести раненых в безопасное место, нужно было взяться за наведение порядка, пока накапливавшаяся внутри тупая горечь не парализовала его энергию. Тут он вспомнил о Фримене, которого взяли с собой, чтобы не оставлять без присмотра, и решил, что Фримен ему пригодится для оказания помощи раненым: от него, во всяком случае, будет больше толку, чем от обезумевших арабов.
Оказалось, что Фримен уже принялся за дело и с лихорадочной поспешностью устраивал пост первой помощи в верхнем конце аэродрома, где стояли бараки. Ему помогал Мустафа, сборщик налогов, — вдвоем они перетаскивали раненых и укладывали их аккуратными рядами на скользком от крови полу веранды перед офицерской столовой. Фримен действовал ловко и проворно, а учтивый Мустафа проявлял солидную заботливость, встречавшую отклик у раненых; они вместе с ним вздыхали и вместе с ним взывали к судьбе. Мустафа успокаивал их растревоженные души, а Фримен старался дать покой истерзанным телам, и это зрелище так умиротворяюще подействовало на Гордона, что он даже нашел в себе силы улыбнуться.
— А, это вы! — увидя Гордона, сказал Фримен, и в его тоне звучало чисто английское омерзение к тому, что произошло. — Слушайте, пришлите мне на подмогу кого-нибудь из ваших головорезов. Какой ужас все, что здесь творится! Это так выглядит ваша идея в действии?
Ни разу до сих пор с Гордоном не бывало, чтобы ему захотелось убить человека из личных побуждений, из неудержимой ненависти к этому человеку. Даже Азми не вызвал в нем такого желания; но ведь Азми не пытался бередить его совесть. Одно дело было, когда упреки исходили от своих же людей, и совсем другое — стерпеть нечто подобное от Фримена. Это оказалось свыше его сил.
— Английское чистоплюйство заговорило! — сказал он Фримену и прибавил крепкое ругательство. — Слишком много здесь, в Аравии, англичан, которые ведут себя так же, как вы, Фримен: вмешиваются в политические дела арабов, затевают заговоры и контрзаговоры и устраивают себе романтическую забаву из чужой жизни. Да, да, да, именно забаву! — закричал он. — Вы никогда не произносите резких слов. Никогда не берете револьвера в руки. Но где-то льется кровь, и в конечном счете она льется по вашей вине. Все это ваша работа, Фримен. Вы виноваты в том, что здесь разыгралось. И пусть именно я — я! — дал пролиться всей этой крови: это все же лучше, чем, как вы, быть повинным в убийстве, не замарав рук. — Его вдруг самого до того ужаснуло сказанное им, что он закричал на Фримена, чтобы тот не трогал бахразских раненых. — Пусть лучше умирают, но вы не прикасайтесь к ним, — сказал он. — Уходите прочь, Фримен, или здесь произойдет еще одно убийство, в котором уж наверняка будете виноваты вы.
Гордон все еще держал в руке свой английский револьвер, и эта рука дрожала.
— Очень рад, что у вас имеется револьвер, Гордон, — сказал Фримен без каких-либо признаков испуга. — Он хорошо символизирует ваши убеждения, и я предпочту получить сейчас пулю в голову, чем хоть на шаг отступить перед ним. — И он снова занялся ранеными, презрительно повернув Гордону спину.
С минуту Гордон взвешивал револьвер на ладони, словно обдумывая, приводить ли в исполнение свою угрозу, потом он покачал головой и сказал: — Нет, Фримен, убивать вас мне противно. Я думаю, вас ждет другая судьба.
Он засмеялся отрывистым нервным смехом и ушел, предоставив Фримену выполнять долг милосердия. Вскочив в седло, он выехал за ограду аэродрома; там Бекр, Али и еще двадцать-тридцать бедуинов гнали по пустыне разрозненные горсточки людей — все, что осталось от военной охраны аэродрома и авиационной части, на нем базировавшейся. Гордон сразу понял, что тут уже опасаться нечего. При малейшей попытке растерянных безоружных бахразцев собраться вместе на них тотчас же налетали Бекр и Али со своими приспешниками и разгоняли их, точно стадо овец. Это было поистине великолепное развлечение для людей, которые привыкли играть, со смертью и ценили игру дороже добычи, что, впрочем, не помешало каждому из всадников оснаститься по крайней мере десятком винтовок и целым ворохом плащей, фуражек, башмаков. Опасаясь, как бы эта свирепая игра не увлекла их сверх меры, Гордон скомандовал прекратить погоню. Они уже сделали все, что можно было сделать в борьбе с противником, не принимавшим боя; дальше это грозило перейти в оргию.
На зов Гордона почти все беспрекословно повернули назад: сказались усталость и наступившее пресыщение. Только Бекр продолжал носиться, как одержимый, размахивая своей саблей (огнестрельное оружие он считал недостойным таких подвигов) и похваляясь, что уже зарубил ею сто человек. «Тысячу!» — восклицал он через минуту, боясь, что его заслуги еще недостаточно велики. Али действовал более практично. Он выбрал себе самую лучшую винтовку из сотен валявшихся на песке пустыни. Для этого он перепробовал и отбросил штук двадцать, стреляя по живым мишеням с различных расстояний. Но теперь он был удовлетворен и сразу же послушался приказа. Зато, чтобы справиться с Бекром, Гордону пришлось ухватить его верблюда за повод и, не слушая негодующих воплей всадника, силой привести его на территорию аэродрома.