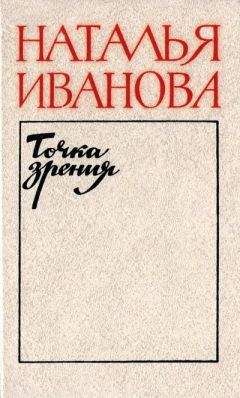СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга первая
...Когда сенушкиных расстреливали в русской армии, в немецкой армии, в белой, в красной, они обязательно что-нибудь лепетали, обещали, клялись, божились и задавали вопросы: да почему меня-то? Других, что ли, таких же нет? Но их все равно расстреливали — они были временны и эта временность была ими безоговорочно признаваема: «Пока живы, пожить как бог на душу положит! То есть совсем без бога!»
«Пока» кончалось, вот и все, и весь расстрел.
А нынче?
Нынче сенушкины почувствовали продолжительность своей временности и заматерели в ней, обрели капитальность и вот интересуются: «Нэп — это надолго ли? Стоит ли нэпом заниматься, тратить на него свою драгоценную, капитальную, продолжительную жизнь, после того как испытала она и войны, и революции, похулиганила там, помародерствовала, но не только не погибла, а укоренилась как никогда?» Нынче сенушкины претендовали на общечеловеческую мудрость, ту самую, которой и корниловым-то не хватало.
«Нет, право же, кто-то тебя расстреливал, Сенушкин! — окончательно решил Корнилов. — Если не я, Петр Васильевич, значит, тот, Петр Николаевич!»
«Было, было! — опять согласился Сенушкин.— Ну, так ведь и мы, сенушкины, тоже не терялись. Мы вас, офицериков, тоже... Неужели не помните?»
Пришлось вспомнить. Вслух Сенушкин повторил свой вопрос:
— Не боитесь, товарищ Корнилова Что завтра же целиком и полностью будете прижатые к ногтю?
— У каждого свой риск. И свой страх... Никто никому не советчик!
— У каждого свой? Да что вы, товарищ Корнилов, будто у двоих уже и не может быть общий страх? И риск? И сговор? Люди же — не лошади?
«Сговор...— отметил про себя Корнилов.— В каком смысле сказано?!»
В конце концов, он столько играл с разными людьми в разные игры, Корнилов, что давно пора было стать артистом, привыкнуть к исполнению неожиданных ролей!
Не привык... Трудно было. Наверное, потому, что приходилось играть не только с кем-нибудь, но и с самим собой, и самого себя,
— Ну, какой может быть у меня с тобой сговор, товарищ Сенушкин?
— Мало ли?.. Как с мастером, с Иваном Ипполитовичем, как с товарищем Барышниковым у вас может быть сговор, так же и со мной... Я-то чем хуже их? Нас Иван Ипполитович всех в бурпартию завербовывал одинаково, всякий сброд. Иван Ипполитович всякий сброд очень любит, хлебом не корми, как нравится он ему. А вы не любите?
Кто с кем нынче играл — Корнилов с Сенушкиным? Сенушкин с Корниловым?
Корниловы с сенушкиными? Сенушкины с корниловыми?
— Брат,— рассказывал Сенушкин,— брат отца моей жены, возрастом тоже чуть что не отец мне, по замкам был огромный спец и меня учил: «Пригодится, братишка, где закрыть покрепче, а где так слишком крепкое открыть». Ну, а человек — не лошадь, и я учился слесарности, и, как слесарь-спец, я угадал на металлический завод, в пролетарский класс и ступил в профсоюз. Ступил, после мне говорят: «Сильнее, Сенушкин, работай, богаче жить будешь!» Боже ты мой, это мне-то, пролетарию и профсоюзнику говорится! Новый, нэповский лозунг для меня произносится на другой же день после военного коммунизма?! «Обогащайтесь!» — преподносится мне! Так ведь это же надсмешка над человеком — уговаривать его на заводе обогащаться! Человек же — не лошадь, чтобы его уговаривать на заводе легкую жизнь искать. Это, можно сказать, лошадь только и возможно так уговаривать! Я, покуда меня не уговаривали, терпел, профсоюзником сделался, а услышал уговор, в тот же раз навсегда бросил завод: ежели обогащаться, так не на заводе же!
И Сенушкин улыбался. «Вот сейчас и пырну! Пырну! Ведь человек — не лошадь!» — а в то же время он уже и теоретиком был, определенно, был им, он уже идейные претензии предъявлял к новой экономической политике, к советскому обществу. Предъявлять он всегда любил, лишь бы вовремя догадаться, кому и по какому поводу предъявлять.
— Когда обогащаться, так у меня и на буровой работе в три не в три, а в два раза выходит заработок против пролетарского и профсоюзного, плюс зимой могилки копаю. Земля сильно мерзлая, труд тяжелый, но он же и легкий: захотел — и бросил копать. Так же и на бурении: штанги тяжелые, а захотел, послал их подальше куда, ушел прочь, да еще и на прощанье спер чего-либо, напакостил как душе угодно... Все ведь в твоих руках, вплоть до того, чтобы нарушить скважину полностью, аварию сделать на ней, когда охота, чтобы вся работа пропала бы пропадом!.. Душевный человек — он не лошадь, у его отказу для души почти что ни в чем не бывает. Ну, а когда уже нет никакой возможности душу ублажить и она в обиду на тебя впадет, тогда приходится терпеть! Но это редко. В основном я свою душу ублажаю, желаю ей наилучшего. Вы душевный человек либо не очень, товарищ Корнилов?
«Вот сейчас и пырну!»
«Пырнул уже!»
Мстил, что ли, Сенушкин?
Ведь сколько раз расстрелян Сенушкин был Корниловым — не счесть!.. За то, что грабил в Могилеве, за то, что убил кого-то в Витебске, за то, что без приказа расстрелял пленных австрийцев под Смоленском — это во время германской войны, а во время гражданской за спекуляцию оружием в Омске, за поджог на станции Татарская, снова за грабеж где-то под Ачинском, а особенно запомнилось Корнилову — за попытку дезертирства с армейским имуществом из таежной деревушки Малая Дмитриевка. Картина этого последнего расстрела прояснилась постепенно.
Зима в год 1919. Мороз лютый, туман, снег в пояс. Тайга. Бездорожье. Тиф. Особая команда по приказу генерала Викторина Михайловича Молчанова сжигает в Дмитриевке армейские обозы, три тысячи саней — имущество некогда знаменитых полков: 1-го Воткинского заводского имени 17-го августа, 3-го Осинского имени Минина и Пожарского, 4-го Боткинского имени Учредительного собрания. Сжигается амуниция, продовольствие, снаряды, ну неужели обойдется без сенушкиных?
Не обошлось — трое дезертировали на груженых подводах.
Троих и привели в штабную избу — потрепанные полушубки, бабьи пуховые платки вместо шарфов, из-под платков часто-часто моргают сенушкинские глазки. Сопливые носы, веснушки, клятвы, обещания, объяснения, наконец, проклятие: «Сами вы, офицерье, бандиты, а бандитов ищете|»
А уже минут через пять под окнами выстрелы — простое дело просто и делается. Просто и быстро, тем более что авангард уже выступал из Дмитриевки на восток... Бежал на восток...
Бывало, бывало, бывало все это от Львова до Владивостока...
Но Сенушкин не был уничтожен ни немцами, ни русскими, ни белыми, ни красными, ни наступлениями, ни отступлениями, наоборот, чем дольше длились войны, тем становилось его все больше и больше, и вот он допрашивает Корнилова: «А вы душевный человек? И почему бы нам не состоять в сговоре?»
И не ответишь ему: «В расход!»
— Уходишь из буровой партии? Уходишь? — спросил Корнилов; — И на прощанье задушил скважину? Тебя и самого-то за это мало задушить!
— Нет,— усмехнулся Сенушкин той улыбкой, которая имела значение: «А пырнуть? Ножичком?!»— Нет, хозяин, никакого интереса... Никакого интереса нет душить до такой степени тайно, чтобы и не знал никто. Интерес — так задушить, чтобы все и каждый знали: Сенушкин сделал, он задушил, а чтобы доказать никто не мог. Все знают, а никто не докажет — вот в чем суть! Человек — не лошадь, вот суть! — Потом Сенушкин без улыбки, очень деловито, даже сочувственно произнес: — Новую скважину нужно, хозяин, закладывать. Новую. А на этой поставить навсегда крест. Забыть ее!
— Не забудем! Поднимем из нее посторонний предмет. Иван Ипполитович поймает и поднимет!
— Никогда
— Но я-то поднимал?! Вот этой рукой! На этой руке он висел!
— Мало ли что! А нынче там, вполне может быть, уже и второй какой-нибудь находится предмет. Неподъемный совершенно и ни в жизнь.
— Откуда узнал?
— Увидел!
— Откуда увидел?
— Из снов... Я в сны верю, товарищ Корнилов. А вы верите, товарищ Корнилов?
— Так вот, Сенушкин, ты из партии уйдешь не сам, не по своей воле — я тебя увольняю! Прощай!
— Прощай...— тихо и задумчиво повторил Сенушкин и уставился на Корнилова голубыми глазками взглядом, в котором присутствовала нечистоплотная смерть... Та смерть, которая освобождает людей от чего-то лишнего, что жить не должно, но все равно почему-то живет в полную силу, требуя от жизни удовольствия...
Было время, когда Корнилов был среди смерти как дома, но все равно к ней не привык, а только научился тонко чувствовать те редкие, те исключительные случаи, когда смерть действительно справедлива, и вот угадывал нынче именно этот случай. Тут ошибки не могло быть.
Вот сегодня, вот сейчас же кто-то скрутил бы Сенушкину руки, кто-то по ошибке убил бы его, приняв за убийцу, на днях бежавшего из тюрьмы, насильника, грабителя, но ошибки-то и не произошло бы никакой, не могло ее произойти, а была бы только справедливость.
Казалось даже, будто сенушкины виноваты в существовании человеческой смерти вообще — не будь их, все тех же сенушкиных, людям никогда не было бы необходимости умирать, тем более убивать. Но теперь они убивают, подозревая друг в друге сенушкиных, горячо убеждая друг друга, что они воюют только с сенушкиными и только их расстреливают, что сенушкиных миллионы, в то время когда они — редкое исключение, но все дело в том, что сенушкины умеют прятаться за спины миллионов, выдавать себя за них.