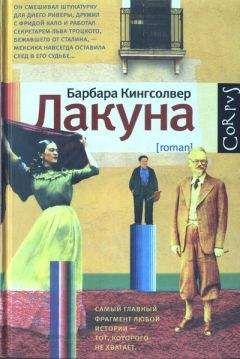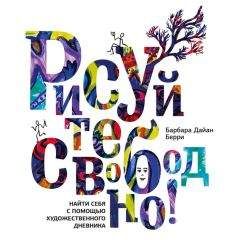Фасолевый лес - Кингсолвер Барбара
– Да, – возразила я. – Пора в кроватку.
Отнеся Черепашку в постель, я укрыла ее простыней, осторожно сняла ее ручку со своей футболки и положила на желтого плюшевого мишку, у которого на груди было пришито розовое бархатное сердце.
– Спи крепко, моя репка! – прошептала я.
– Репка, – повторила Черепашка.
Когда я вернулась в гостиную, Снежок уже переместился с коленей Эстевана в лунку, оставленную мной на диване. Я устроилась между котом и Эстеваном, подобрав под себя ноги. Нервозность моя улетучилась, несмотря на то, что я почти физически чувствовала притяжение, будто поток теплой воды, в том месте, где соприкасались наши колени.
– Стоит узнать человека получше, – продолжила я прерванный разговор, – и оказывается, что с каждым когда-то случалось что-то ужасное. Все это время я ныла, потому что на меня повесили ответственность за Черепашку. А теперь я чувствую себя виноватой.
– Ответственность ужасна, если ты ее не желаешь.
– Да что уж там. Шестидесяти процентам девочек из моей школы пришлось взвалить ее на себя. Да и во всем остальном мире то же самое.
– Если так посмотреть, то да, – проговорил Эстеван. Он явно засыпал.
– Мне кажется, что так устроен мир. Если бы люди хорошенько над этим думали, в смысле, если бы можно было вернуть ребенка через месяц, как книжку в библиотеке, то человечество за месяц бы и вымерло.
– Некоторые не стали бы возвращать, – сказал Эстеван уже с закрытыми глазами. – Исмену я бы оставил себе.
– А вы вставали среди ночи, чтобы кормить и пеленать ее?
– Нет, – произнес он со слабой улыбкой.
– Не могу поверить, что задала вам такой вопрос. Вам больно, когда с вами говорят об Исмене?
– Сперва было больно. Что мне помогает, так это вера в то, что ее жизнь где-то течет своим чередом, что кто-то о ней заботится. Что она растет и взрослеет.
– Я понимаю, – кивнула я.
Но я знала, что у этой медали есть и оборотная сторона. Где, под чьей опекой она растет? Я подумала: кем бы стала Черепашка, если бы ее воспитывала, скажем, Вирджи Мэй Парсонс, и у нее Черепашка научилась бы задирать нос и носить маленькие шляпки… А затем шляпка в моем сознании вдруг превратилась в полицейскую форму, и я поняла, что на мгновение отрубилась и заснула. Мы с Эстеваном то засыпали, то просыпались, по-дружески развалившись рядом. Какой уж смысл нервничать, если спишь с кем-то на одном диване, разинув рот.
Снежок спрыгнул на пол и принялся скрести когтями ковер, прикрывая свой воображаемый грех.
Помню, в какой-то момент Эстеван спросил:
– Так почему вас звали тупыми орехоколами?
Я попыталась выбраться из сна, где мы с Черепашкой хотели перебраться на противоположный край большого плоского поля, идя параллельно линии телефонных проводов, чтобы добраться до цивилизации.
– Орехоколами? – наконец смогла я ответить. – О, это из-за грецких орехов. Осенью мы их собирали и продавали, чтобы выручить денег на одежду для школы.
– И вам нужно было лазать по деревьям? – спросил Эстеван. Меня поражало, что ему бывают интересны такие подробности.
– Нет, – ответила я. – Нужно было просто дождаться, пока орехи упадут, и потом уже собирать. Самое сложное – это освободить орех от скорлупы. Мы клали орехи на дорогу, под колеса машин, а потом собирали то, что получалось. От этого наши руки становились черными, и это было самое ужасное – в школу приходилось идти с черными ладонями и с грязными ногтями. Кто таким приходил, тот и был орехокол.
– Но иначе у вас бы не было новой одежды.
– Точно. И так поверни, и этак – все плохо. Пожалуй, – размышляла я в полусне, – лучшим выходом было бы покупать одежду с глубокими карманами. – Я имела в виду, куда можно было бы прятать грязные руки, но воображение рисовало мне совершенно иную картинку: карманы, набитые под завязку орехами. Фунтами и фунтами орехов. Нам платили по десять центов за фунт, а пара джинсов «Ливайс» стоила пятнадцать долларов, то есть равнялась ста пятидесяти фунтам орехов.
Потом я вновь проснулась, почувствовав на своей ноге вес Снежка и услышав звук его прыжка. Мы с Эстеваном лежали на диване в обнимку, его колени прижимались сзади к моим, а его левая рука покоилась на моих ребрах, чуть ниже груди. Положив ладонь поверх его ладони, я почувствовала биение собственного сердца.
Я подумала про Эсперансу, вспомнила ее косы, раскинувшиеся по плечам. Сейчас она, должно быть, лежит, уставившись в потолок, на больничной койке, пока яд вместе с потом выходит из ее организма. Возможно, ей дали рвотный корень, от которого тебя выворачивает наизнанку, пока не начинаешь чувствовать, как стенки желудка схлопываются вместе. Все беды, которые пережила Эсперанса, вспыхнули в моем сознании – огромный пожар, в который наш ужасный мир все подбрасывает и подбрасывает дров. Где-то там, среди языков пламени – ребенок, так похожий на Черепашку. Я подняла руку Эстевана, лежавшую на моей груди, и поцеловала его теплую ладонь. Потом соскользнула с дивана и отправилась к себе в постель.
Лунный свет лился сквозь окно в спальню, словно бледная водянистая версия картофельного супа, который готовила мне мама. Лунный суп, подумала я, обнимая себя под одеялом. Где-то недалеко жалобно, словно ребенок, завыл кот, а еще ближе крикнул петух, хотя до утра было еще совсем не близко.
10. Фасолевый лес
Ночью даже пятнистая свинья черна – еще одна присказка, которую любила повторять мама. Означает она следующее: утром все оказывается не таким мрачным, как виделось ночью.
Так и вышло. Первым делом, позвонив, Мэтти сообщила, что с Эсперансой все будет в порядке. Ей даже желудок не промывали, потому что она приняла недостаточно таблеток, чтобы причинить себе серьезный вред. Я сделала Эстевану большой завтрак: яичницу с помидорами, перцем и зеленым соусом чили, после чего побыстрее отправила домой, чтобы опять не влюбиться в него, на этот раз – за завтраком.
Черепашка проснулась в умильно ласковом настроении, сонно потирая глазки – дети, должно быть, инстинктивно знают, что это единственный способ удержать человечество от вымирания. Лу Энн вернулась домой от Руисов, распевая «Ла Бамбу».
Удивительно (если вспомнить, что собой представляет Рузвельт-парк), что мы всегда по утрам слышали пение птиц. Наверное, в их мире тоже есть отщепенцы, одиночки с помятыми перьями, которые ищут себе собратьев в хилых умирающих деревьях. Так или иначе, но их было множество. Например, мы постоянно слышали дятла, который (клянусь, это правда) говорил: «Тук-тук-тук, ха-ха-ха, пошли к черту!» А была еще одна птичка, похожая на голубя, которая пела: «Гип-гип-уррраааа!» Лу Энн с самым серьезным видом уверяла меня, что на самом деле она говорит: «Вставать пора!» Это она вычитала в журнале. Я безуспешно пыталась представить журнал, в котором могли напечатать такую дребедень, но спорить мне не хотелось – в первый раз за все время Лу Энн стойко держалась своего мнения, хотя обычно к подобной стойкости была не склонна. Однажды, как она мне рассказала, в ресторане ей принесли чужой заказ, и она просто молча съела его, чтобы не создавать никому проблем. А это была, между прочим, сушеная говядина на куске тоста.
Постепенно мы с Лу Энн начали менять облик дома, заполняя пустоты, которые оставил за собой Анхель, детскими книжками, высокими стульчиками, сумками для подгузников, а также разнообразными игрушками, которые размером обязательно превосходили мяч для гольфа. В магазине «Для вас они новые» я купила Черепашке настоящую детскую кровать. Заднюю веранду дома мы превратили в игровую комнату. Дуайн Рей, понятно, еще не был готов полноценно играть там, но он любил сидеть, пристегнутый к автомобильному креслу, и смотреть, как Черепашка сажает в цветочные горшки свои игрушечные машинки. Пожарную машинку она называла бомидор, оранжевую – борковка, а иногда важды-ва (дважды два) – так я иногда именовала свой «фольксваген» в честь того проходимца, который нажился на моей катастрофе с рокером.