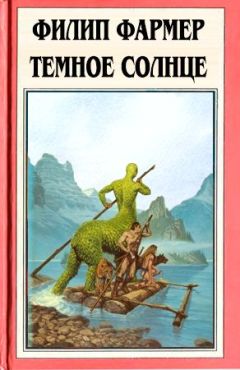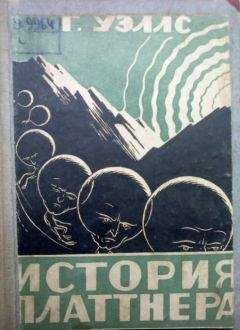Александр Шаргородский - Капуччино
— Мать, — сказал Виль, — мсье Медведь любил всего одну женщину, запомни это, мать!
— Попрошу не тыкать, — взревела «мать», — мы не в турецкой бане! Что вы знаете о русской душе, потомок Сулеймана?! Одна?!.. А Майя Пугайская? А Нелли Брэд? А Зельда Буго? Вы слыхали о них, наглец-бей?
— Нет, — честно признался Виль.
— Тогда ступайте на стамбульский рынок! Почем пучок кореандра?
— Запомните, мать, — Виль двинулся на Доброво, — господин Медведь любил одну женщину. Одну. Повторите!
— Позвольте, — недоумевал Штайнлих, — а как же граф Ульрих?! Как же Жако? — он повис на руке Виля. — Вы что, не знаете ничего о великом герцоге?!
— Ни слова, князь!
— Уму непостижимо, — «князь» разводил руками, — это был его любовник «пищевого» периода. Господа, это же всем известно.
— Не мне, — Виль пытался сбросить Штайнлиха с руки.
— Может, потому, что это было на уровне подсознания, — неизвестно у кого спрашивал Штайнлих, — когда суперэго… Фрекен Бок, вам-то это известно?
Фрекен молчала и густо краснела.
— У него была одна любовь, — гордо произнесла она, — всего одна!
И покраснела еще гуще.
— Мать, — начал Доброво, — если вы имеете ввиду Анну Иоановну…
— Я имею ввиду фрекен Бок, — произнесла фрекен Бок и достала фото прыщавого юноши, — вот наш сын…
— Пардон, мадам, — произнес Виль. — Я никогда с вами не спал…
— Мерзавец, — взревела фрекен, — еще не хватало!
— Откуда же дитя?!!
— Мужчины, вы смотрите! Скандал! Как он посмел?! Сравнивать себя с великим писателем. Я не в парандже. Я не из гарема, где вы развлекаетесь. Не смейте обо мне и мечтать!
— Кто мечтает? — заметил Виль.
— Варум? — спросил Штайнлих. — Мечтайте! На уровне подсознания — мечтайте!
— Запрещаю, — вопила фрекен, — даже на уровне подсознания! Я учила его три года, я знаю — он весь на уровне подсознания. Запрещаю!
— Подсознанию запретить нельзя, — ухмыльнулся Штайнлих.
— Бросьте ваши фрейдистские бредни, мать, — вступил Доброво, — во-первых, в России можно, а во-вторых…
— Но речь идет о турке!
— Я наполовину грек! — напомнил Виль.
— Речь идет о моем друге, Медведе Виле Ивановиче!
— Васильевиче, — поправил Виль.
— Вам мало моего друга, наглец-бей! Вы трогаете его отца! Сделайте из него еще Абрамыча! Господин Затрапер, — Доброво дрожал, — поносят славное имя! Разрешите заткнуть пасть?
— Вай? — спросил сэр. — Скоро обед?
— Речь идет о моем друге, сэр, господине Медведе — буйном таланте, диком нраве, необъятном просторе, а из него делают Кафку! У него была русская душа, профессор.
— Не думаю. У Кафки — русская душа? Спорно. Который час?
— Русская, русская, — подтверждала фрекен, — он называл меня «василек».
— Мадам, кто отбирает душу, — продолжал Штайнлих, — но согласитесь — в ней были подавлены сексуальные инстинкты…
— Я бы не сказала, — фрекен Бок опять залилась алым закатом.
— Подавлены, подавлены, — настаивал Штайнлих.
— С кем?! — взревел Доброво, — с Пугайской?! С Нелли Брэд?! Постыдитесь, мать! Это были богини. Нежные. Ноги до плеч. Кудрявые головы. Зовущие голоса. В глазах — Бискайский залив. Если б вы их увидели, мать — даже ваши инстинкты бы возродились.
— Я видел, видел, — успокоил Штайнлих.
— Ну и?!
— Не трогайте мои сексуальные инстинкты! — представитель Лихтенштейна перешел на дискант. — Они подавлены кем надо и как надо! Мы не в России и не в Турции. Они сублимируются на семантике, Сальвадоре Дали и пророщенных зернах! В то время, как у вашего Медведя сексуальная подавленность прорывалась необузданно и дико в сатирическом смехе, едкой иронии и сардоническом эксгибиционизме! Оргазм фразы, столь присущий его творчеству…
Доброво профессионально прижал Штайнлиха к стенке.
— Повтори!
— Мы уже перешли на ты? — удивился семантик.
— Отпусти его, — сказал Виль, — Извержение семени! Вы что не понимаете, мать? — фраза извергает!
— Да, да, обычный лингвистический оргазм, даже студенты понимают, — пищал Штайнлих.
— Заруби себе на носу, мать, — Доброво прижимал Штайнлиха к доске, — русской душе не свойственен оргазм фразы!
— А как же Фет!
— Кибитка, степь, молодецкий посвист — вот русская душа, мать. Оставьте ваш оргазм Лихтенштейну!
— У Лихтенштейна еще оргазм, — удивился Арчибальд, — ему ж за сто?
— Откажитесь от оргазма! — вопил Доброво.
— Оргазму приказать нельзя, — Штейнлих уже хрипел.
— Господа, — фрекен Бок указала на портрет Виля, — он был чист, а мы — только о половых сношениях!
— В сто лет! — повторил сэр. — Удивительно!
— Пардон, мадам, — Штайнлиха выпустили, — мы говорили о фразе.
— Вы ее превратили в сперматозоид! — фрекен заревела. — Если бы герр Медведь знал, что он писал рублеными сперматозоидами…
— Позвольте, я не утверждал — рублеными!
— … Он прожил такую тяжелую жизнь, — она ревела, — его травили, преследовали, ему не давали писать, пить, его в детстве безжалостно била мать.
— Не мать, коллега, а отец, солдатским ремнем! — сказал Штайнлих.
— Перестаньте, — мать, и кочергой.
— Позвольте не согласиться. Если бы вы внимательно изучали его творчество — вы б увидели, кто его бил…
Доброво одной рукой сжал шею фрекен, другой — Штайнлиха.
— Господа, вы когда-либо испытывали предсмертный оргазм строки?!
Виль отключился. Он был в Ленинграде, он смотрел в окно на папу, который шел по двору. Он видел папу, который никогда не мог его ударить. Поднять руку он еще мог. Но опустить…
Он бы даже хотел, чтобы это однажды случилось, чтобы кто-то опустил — мама, папа — но никого не было дома. Или в тюрьме или на работе. Его растила бабушка, при одном воспоминании о которой ему становилось хорошо. Она пекла ему блины со сметаной, она клала свою теплую ладонь на его лоб и пела ему:
— Брэнд, майн штетеле, брэнд, — пела бабушка.
Он почувствовал ее ладонь на лбу и очнулся.
Научный диспут продолжался. Доброво не задушил ни фрекен, ни Штайнлиха — оба орали.
— Мать! — орала фрекен.
— Невежа! — кричал семантик. — Если б его била мать — его смех был бы сардонический, а у него — саркастический! И не было бы оргазма! Когда бьет мать — во фразе оргазма нет! Это — отец, отец!
— Боже, — кричала фрекен, — если б сеньор Медведь был жив, он бы умер второй раз!
Виля вдруг захлестнула невиданная волна ненависти, ярости, злобы.
— Я жив! — спокойно и тихо сказал он и сорвал свои турецкие усы. — Я жив, медведеведы! Несмотря на вас всех! Я жив, сэр Затрапер, я жив, моя старая киншасская мать, жив, оргазм из Лихтенштейна, жив, фрекен Бок, несмотря на вас и ваши махинации под платьем! Я жив, я с вами, радуйтесь, медведеведы! Что же вы онемели?! Гаудеамус игитур!!! Вы помните, фрекен, возле кузницы есть тропа — ух-ух! — и у меня невероятное желание — ах-ах! — сделать со всеми вами то, что девки сделали с попом, — ух-ух! Чтобы вы не ходили, мохнатые, в мой огород, не клали под меня Пугайскую, не били солдатским ремнем, не загоняли в подсознание и не заставляли упирать язык в небо! «Щ», мохнатые!
— Щ! — повторили ошарашенные медведеведы. Они сгрудились под портретом и долго, мистически молчали.
— Майн гот! — наконец, выдавил Штайнлих. — Вы живы?!
— Да, а в чем дело?
— В Лихтенштейне только что узнали, что вас нет!
— Можете не отменять — для Лихтенштейна я умер!
— Мать моя!.. — проревел Доброво. — Какая же сука мне подарила часы, мать моя?!
— Какие часы, — стонала фрекен Бок, — кто мне сделал ребенка? От кого ребенок?
Спокоен был только сэр Арчибальд Затрапер.
— Сэр, — сказал он Вилю, — меня не интересует — живы вы, умерли, время обеда, сэр…
— Bonne appétit, messieurs, dames, — пожелал Виль и снял свой портрет…
На диване, на старой их кушетке, в свете отраженного солнца он увидел родителей. Папа безудержно хохотал, а мама, печальная мама, сказала:
— Как смешна наша жизнь, сынок, — и заплакала.
— Не плачь, мама, — сказал он.
* * *Диплома Виль не защитил. Его выгнали из Университета за скрытие имени и сожительство с фрекен.
Его выгнали даже из двух — из одного, как студента, из другого — как профессора.
Турецкая община была возмущена. Греческая опечалена. Русские от него отказались. Евреи — отреклись.
— Еврей не может… — писали они.
То же самое писали русские, турки, греки. Менялась только национальность.
Больше всех был возмущен Лихтенштейн.
— Уж лучше бы он умер, — писали газеты.
Виль сидел на берегу лингвистической речки и вспоминал судьбы сатириков: Ювенала сослали, Бабеля убили, Свифта посадили на цепь, Вийона повесили.