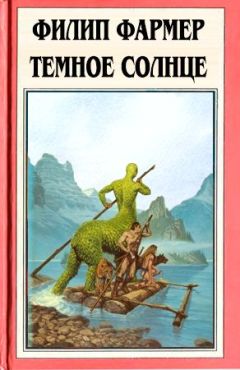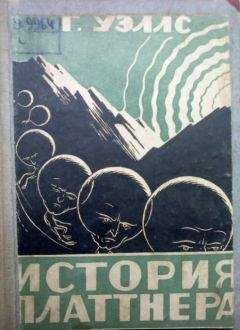Александр Шаргородский - Капуччино
— С какой стати? — удивился Доброво. — Я их никому не даю. Я сам их ношу только по торжественным случаям.
— Экскюз ми, который час? — спросил Затрапер. — Еще не обед?
— Сэр, — сказала фрекен, — мы еще не повесили ленту.
Она встала, направилась к портрету и начала прикреплять к правому нижнему углу фото траурную ленту.
Медведь вскочил.
— Секундочку, фрекен Бок, — а вы уверены, что он умер?
— К сожалению, — ответила фрекен, — по сообщениям, полученным по тайным каналам.
— Кто умер? — заволновался Арчибальд.
— Великий сатирик Медведь!
— Разрешите узнать — от чего? — поинтересовался Виль.
Возмущению фрекен не было предела.
— Как вам не стыдно, Папандреу?! Три года в Университете! Неужели вы не знаете, от чего умирают великие русские писатели?!
— Неужели на дуэли?
— Он умер от белой горячки, — возвышенно произнес Доброво и воздел руки к небу: — Россия, что ты делаешь с сынами твоими?!
— Но он не пил, — возразил Виль, — какая белая горячка?
— Позор, — вскричала Бок, — три года в Университете — и не знать, что делают великие русские писатели. Мне стыдно, Папандреу!
— Пробел, — извинился Виль, — я много болел… работа в турецком ресторане.
— Это не извиняет, — сказал Доброво.
— Постеснялись бы хоть памяти ушедшего, — продолжала фрекен, — судьба вам подарила такой шанс — защищаться в день смерти писателя, это честь для любого.
— Кто ж мог знать, — сказал Виль, — разрешите посвятить мою работу памяти ушедшего.
Этот вопрос застиг комиссию несколько врасплох. Она долго совещалась. Доброво периодически кричал «Мать Россия» и вспоминал русско-турецкую войну, Штайнлих говорил, что в Лихтенштейне еще не знают, фрекён плакала. Наконец, слово предоставили сэру Затраперу. Он встал, высморкался.
— Леди и джентельмены, — произнес он, — прошу почтить память вставанием!
Зал поднялся.
Затраперу было за 90, он очень любил Медведя и, видимо, смерть сатирика отняла у него последние мозги.
— Сэр, — прошептала фрекен, — речь шла о посвящении.
— Слово предоставляется профессору Доброво, Киншаса, — сказал Затрапер и сел.
— Большинством голосов, — сказал Доброво, — комиссия постановила: — сначала защититесь, а там увидим. Возможно — и посвятить нечего.
— Правильно, — сказал Затрапер, обращаясь к Доброво, — сначала защитите — там посмотрим. Ну, начинайте.
— Побойтесь Бога, сэр Затрапер, — пробасил Доброво, — я уже защитился, я доктор, университет Киншасы.
— Серьезно? — удивился Арчибальд. — А зачем же мы тогда собрались?
— Дипломная работа, — напомнила фрекен, — студент Папандреу, «Сатира Виля Медведя»!
— Попрошу почтить память вставанием, — опять произнес сэр.
Вновь все загремели пюпитрами. Молчали. Наконец сели.
— Слово для защиты, — сказала фрекен Бок, — предоставляется дипломнику Назыму Папандреу. Пожалуйста, начинайте.
Виль молчал. Ему все вдруг обрыдло. Диплом. Университет. Писанина, провалы, успехи. Он чувствовал себя одиноким апельсином на черном дереве, в ноябре, в Тбилиси. Он видел такой. Виль смотрел на свой портрет в траурной кайме, в черной ленте, на оппонентов в черных костюмах и начал примерять их к этой кайме. Большего всего она подходила его киншасскому другу, «последнему убежищу». Упираясь бритой головой в раму, он говорил, явно о себе:
— Россия, что ты делаешь с сынами своими?!
Виль рассмеялся. Комиссия оторопела.
— Смеяться в такой день, — вскочила фрекен, — когда весь мир скорбит!
— В Лихтенштейне еще не знают, — уточнил семантик.
— Ржать в день скорби?! Ну, мать твою! — Доброво сжал огромные кулаки. Он явно двигался к мату.
Сэр Затрапер нетерпеливо посмотрел на часы.
— Начнет кто-нибудь, наконец, защиту или нет? Двенадцатый час. Фрекен Бок, давайте, что там у вас, Маяковский?
— Сэр, я ж защищалась, и по вас, сэр Затрапер.
— Так это ж когда было, милочка. Я помню ваше тело в тот период…
— Сегодня Папандреу, профессор, — перебила фрекен, — H…назым Папандреу.
— Давайте, Папандреу!
— Назым, поймите, — голос ее стал сладким, видимо, от воспоминаний сэра, — если профессор уйдет обедать — защита будет недействительной.
— А я уйду! — пропел Затрапер. — Ой, уйду! Ну, начинайте, — он повернулся к семантику, — начинайте, герр Лихтенштейн.
— Я Ш-штайнлих, — сказал семантик.
— А кто ж Лихтенштейн? — растерялся Затрапер и повернулся к Доброво.
— Г-государство, — напомнил Штайнлих.
— Д-да? И какая у вас там погода?
— Папандреу, — приказала фрекен, — начинайте, профессор устал, переходите к делу.
— Я помню ваше тело, — сказал Арчибальд, — и начисто забыл вашу фамилию.
— Б-бок, фрекен Бок.
Затрапер встал.
— Попрошу почтить память вставанием!
Все перетянулись, никто не поднялся.
— Можете садиться, — произнес Затрапер.
— «Сатира Виля Медведя», — торжественно произнесла фрекен, — дипломная работа господина Папандреу.
— У меня что-то странное с памятью, — сказал Затрапер, — теперь я помню вашу фамилию и не помню тела.
— Назым, родной мой, — фрекен чуть не плакала, — начинайте.
— Сначала снимите траурную ленту, — ответил Виль.
— С кого? — не понял Доброво.
— С вашего друга! Кого вы локтем, в тяжелую минуту!
— Мать-Россия, — Доброво перекрестился, — они издеваются и после смерти. Никогда! Вы слышите, никогда, басурманская рожа, — и, повернувшись к портрету, успокоил:
— Спи спокойно, дорогой товарищ!
— Я тебе посплю! — рявкнул Виль и бросился срывать ленту.
— Господа, — завопил Доброво, — отечество в опасности! — и грудью закрыл портрет. Медведь, как мог, отпихивал его.
— Караул! — вопил Доброво. — Погром! Армянская резня.
Оппоненты сгрудились вокруг.
— Руки прочь от Медведя, — визжала фрекен.
— Да подставьте ему ножку, — просил Доброво, — он же уже ленту срывает.
— Майн гот, — вопил Штайнлих, — в Лихтенштейне еще не знают, а он уже снимает, майн гот.
— Раз снимает — значит не умер, — сказал Затрапер.
— Вы гений, профессор, — Виль ухватился за ленту.
— Он умер, други, — басил Доброво.
— Умер — не умер — для меня он всегда жив! — завопила фрекен.
— Не понимаю, — Затрапер нервничал, — речь идет о ком? О Ленине?
— Почему, сэр? — фрекен не понимала.
— Только Ленин всегда жив, милочка, — Затрапер ущипнул ее.
— Ай! — взвизгула фрекен.
— Что вы делаете после защиты?
— Еду в Лихтенштейн, — сказал Штайнлих.
— Вас не спрашивают, — буркнул сэр.
Виль вовсю тянул ленту. Доброво уперся в стол президиума и не сдавался.
— Отечество в опасности! — вопил он. — Отпустите, убью! — и он замахнулся на Виля именными часами. — Дара не пожалею! Прочь от портрета, е… твою мать, — он, наконец, прорвался, к чему шел всю защиту.
— Заткнитесь, прибежище, — ответил Виль.
— Наглец-бей, — кричал Доброво, — если б он был жив, он бы вас задушил вот этими руками, — он вытянул свои длинные руки, блистали крахмальные манжеты, — вот этими вот! Которыми он написал «Дождь косой», «Плач России», «Снега»…
— Он не писал этого, мать, не писал.
— … и свой последний роман, «Кретины», который он посвятил мне!
— Врете, мать, «Кретинов» он посвятил женщине.
Штайнлих был потрясен.
— Молодой человек? Что вы несете? Ребенку известно, что он был педераст.
— Штайнлих, я вас сейчас!..
— Нет, я! — рявкнул Доброво.
Он опередил Виля и схватил Штайнлиха за лацканы:
— Если б Медведь был жив, он задушил бы вас вот этими самыми руками, — Доброво бросил семантика и вытянул свои руки, — это был Дон-Жуан! Каллиостро! Распутин! Вы не представляете, сколько он перееб баб!
— Пардон, что такое «перееб…»? — заинтересовалась фрекен.
— Вас это не касается, — отрезал Доброво, — он любил брюнеток, блондинок, шатенок. Он любил женщин Сибири, средней полосы, казачек Дона и Кубани, смуглых грузинок, дочерей Питера, румяных латышек взморья, зубастых эстонок, узбечек Бухары. Всегда он был в окружении красавиц, к нему слетались, его ждали у подъездов, у поездов, у трапов самолета. Мы с ним любили женщин повсюду — камни Петрограда, крыша мира Памир, стены Эрмитажа, кронштадский лед.
— Да, да, кронштадский лед, — мечтательно повторил Затрапер.
— В нем был огонь, мужская сила, детская нежность, гусарская удаль, гренадерский задор. Он выпивал бутылку шампанского и начинал… Я не знаю, сколько у него было женщин. Только со мной у него была тысяча, — вы слышите, лихтенштейнское чудо, — целая тысяча, если не больше. Что вы ухмыляетесь, бусурман?!!