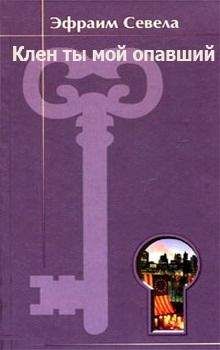Людмила Бояджиева - Пожиратели логоса
— Постой, — сильная рука легла на его плечо. — Я не издеваюсь и не смеюсь. Просто я не умею плакать. Слезы — бальзам для ран. Это то, что отнял у меня Алярмус.
Севан поднял ракушку и долго рассматривал её, как драгоценность. Потом, словно завершив ритуал прощания, швырнул её в океан. Фил увидел, что у него много морщин и он совсем не так молод, как казался раньше.
— Месяц назад я был в Америке. В клинике ФБР находилась женщина, которую я мог бы полюбить. Да и любил, наверно. Нельзя забыть песок под пальмами с вкраплениями крошечных драгоценностей — ракушек — изделий Создателя. И самой великой ценности — тела Мишель, раскаленного солнцем и страстью. Так я думал тогда, благодаря жизнь и Творца… Прошло несколько месяцев — и Ад отомстил нам за умиление. Мишель Роуз сообщила, что изнасилована гигантским червем. Эта версия даже многим посвященным казалась плодом больного воображения. И она решила выносить плод — интересы ученого победили женские страхи, — Севан долго молчал, собираясь с духом и спокойно продолжил:
— Я уже знал, что нечто подобное произошло с моей матерью и помчался к Мишель, что бы объяснить — ребенок может вырасти нормальным, если сумеет победить в себе монстра…
Я опоздал — мисс Роуз уже родила и лежала совсем без сил. Никогда ни у кого я не видел таких глаз. Мишель сжала мою руку и заговорила тихо, но так горячо и убежденно, что у меня зашевелились волосы на темени. Это она рассказала мне про АД. Это она сделала меня посвященным.
«— У каждого свой ад и своя дорога к нему. Выживая в аду, мы становимся достойным его. Больной, разбитый, измученный старик, дотащившийся в конце пути до дверцы с надписью «выход», осознает, что исполнял всю жизнь обязанности палача по отношению к тем, кого любил. Он просит прощения у близких, понимая, что не достоин его. Потому что всю свою жизнь только и старался сделать «как лучше», мучая любимых людей. Даже на пороге смерти Ад не избавляет его от пытки, терзая тело болезнями, распадом. И отчуждением тех тем, для кого он жил, а теперь — измученный злой стал в тягость… Вынашивая плод, я стала объектом исследования. Но меня сторонились, мною брезговали… Со мной даже боялись говорить по душам, словно мое состояние заразно. И у меня открылись глаза — я поняла: все мы — обманутые, обреченные, оскверненные эгоизмом, ложью, жаждой красоты, покоя, счастья… Мы — замороченные лживыми иллюзиями — достойные дети ада» — Шептала она искусанными губами и это было похоже на бред или прозрение.
— Пусть так, — сказал я. — Но даже сознавая это, можно отказаться от веры и радости, но от жалости и сострадания — никогда. Я все равно люблю тебя Мишель…
…На рассвете её не стало. Мне показали то, что произвела на свет эта женщина… Нет, Фил, я зря надеялся. Он было мало похож на человека плод изнасиловавшего её червя. Мишель родила монстра. Я увидел омерзительный симбиоз ребенка и лилового слизняка. ОНО смотрело на меня вполне осмысленно! Человеческие глаза на заостренном вытянутом черепе, покрытом сиреневатой чешуйчатой кожей… Именно тогда прозрел окончательно. Я понял бесповоротно: все, что Мишель говорила про Ад — правда. — Севан поднялся и пошел к берегу по узкой тропинке мола, овеваемый налетевшим ветром. Филя догнал его на песке и остановил, забежав вперед — маленький и щуплый перед великаном.
— Нет! Послушай меня, послушай! Ты потрясен, ты видишь только черное. Да, люди взрывают, потрошат, истязают себе подобных, глумятся над святынями, предают, лгут — но не от того, что их к этому принуждает ад. Они становятся жертвами тех, кто послан адом — его армии.
— Ты сам написал про пожирателей Логоса. То, что ад процветает — их победа.
— Но не все же с ними! Логос бессмертен. Смысл — в основе мира! Достань антологию мировой поэзии. Послушай настоящую музыку! Это признания любви к миру, к жизни, к свету, сотворившему жизнь. И как бы не свирепствовал вирус Пожирателей — они будут служить смыслу и слову со всем жаром души, всеми силами отпущенного им дара — маленького или огромного, тихого или громкого, легкого или тягостного. Логос бессмертен, как весенняя трава — пробивающаяся сквозь прошлогоднюю гниль. Отпадает шелуха и Слово снова занимает место рядом со Словом, устремляясь к смыслу… Я понимаю, что бываю смешон… Мой архаический пафос временно уценен, но он вечен, как вечно рождение, утро, верность, сострадание. Как бы ни изощрялись Пожиратели, кто-то все равно будет сочинять стихи о первом поцелуе и распустившемся цветке. Кто-то будет плакать над Русалочкой или Травиатой, влюбляться вместе с Мастером, запечатлять полет ласточки, как Годунов-Чардынцев… И ничего, ничего не сгинет, потому что Любовь неистребима!
— Браво! — ладони громко ударили, спугнув чаек. Закинув голову и, не отрывая прищуренных глаз от лица Теофила, Севан проговорил:
«Ты прости и не слушай меня. Много лет я уже одержим. Разверзаются ада врата и уже никого не найти, кто бы спрятал младенца Христа под рубахой на потной груди…»
Ведь это твои слова, Любимец Бога. Не забыл?
Горько улыбнувшись, он обогнул Теофила и зашагал по блестящей от набегов волны кромке песка. Он даже не обернулся к оставленному человеку. Брюки намокли, темные волосы вздыбил ветер — Севан удалялся, растворяясь в дымке утреннего тумана.
32
Теофил прибыл в Шереметьево один — Вартанов задержался в Америке, что бы помочь оградить Эллин от возможного нападения. Девушка не поняла ничего в странном происшествии с сантехникой, сетуя на конструкторские неполадки. Вечером, накануне отбытия «сценариста», у них состоялся серьезный разговор. Эллин ждала российского кинематографиста на веранде своей виллы, где был накрыт на двоих романтический стол.
— Мне показалось… Показалось, что между нами произошло что-то серьезное, — сняв с горящей свечи расплавленный воск, девушка мяла его нервными пальцами. — Я трудно подпускаю к себе мужчин. Тебе ведь не показалось…
— Нет! — поторопился заверить её Теофил. — Я не подумал, что ты… легкомысленная. Была такая волшебная ночь, мне казалось, будто мы давно вместе и я здесь, как дома… — Спотыкался он в дебрях не блестяще освоенного чужого языка.
— Ты можешь работать в Голливуде. У меня есть связи. Ты покажешь моему продюссеру твою новую работу, фильмы по твоим сценариям… У тебя ведь известное имя?
— О… Имя известное, — русский гений заерзал в кресле. — Но сейчас много работы в Москве.
— Я могу прилететь к тебе, — печальные глаза Эллин наполнились слезами. — Мы поживем вместе в твоем доме…
— Это невозможно! — вскочил Теофил, ошеломленный перспективой приема в своей лачуги избалованной девочки.
— Я поняла… — Эллин сморкнулась в салфетку. — У тебя есть жена.
— Жена?… — Филя таращил сквозь очки изумленные глаза и тяжело дышал. Наконец, смиренно опустил взгляд и выпалил: — Есть…
Беседа перешла на отвлеченные нравственные темы. Эллин жаловалась, как неспокойно у неё на душе с тех пор, как начались съемки фильма. Фил рассказал ей притчу о тех несчастных, кто способствовал размножению насилия на земле и произвел на свет змея. Эллин не стала смеяться над серьезным тоном русского, и дала ему слово, что порвет контракт со студией, в какие бы миллионы ей это не обошлось. Впрочем, несмотря на хорошо сыгранную искренность, ясновидец почему-то малышке не поверил.
33
После Калифорнийской южной роскоши грязно-снежный подмосковный пейзаж казался инопланетной территорией — лагерем для ссыльных без лечебного или трудового уклона. Свой поселок и дом он словно видел впервые — с северных теневых ещё сторон лежал потемневший снег, а под солнцем проглядывала влажная земля с пучками выжившей, тифозно-выморочной травы. Каким же черным показался возвращенцу щербатый штакетник, как жалко выкарабкивался из оков остекленевшего снега сгорбившийся дом под серой шиферной крышей! А мутные окна в раме облезлых ставней, когда-то кокетливо-резных, смотрели на солнечный день ввалившимися глазами слепца. Жалость и стыд нокаутировали Теофила. Пусть это не Голливудские холмы, пусть нет садовника и пятимиллионного штрафа за сломанный унитаз, да и унитаза, собственно, нет, но разве можно допускать запустение? Развал есть развал, происходит ли он в Вестминистерском дворце или в свинарнике деревни Убогое. Это победа энтропии над человеком, чего допускать нигде и ни при каких обстоятельствах нельзя. Надо покрасить деревянные кружевца белым маслом. И яблони постричь. Обязательно надо! Нельзя сдаваться Доброму человеку. Но почему ставни раскрыты и калитка не заперта? Чей голос раздается в саду? Уронив чемодан на крыльце, Филя в полной растерянности зашагал по дорожке, перепрыгивая лужи. У поленицы дров он замер, сраженный увиденным. В сугробе среди голых деревьев образовалась проталина. Снег искрился на солнце и казался ослепительно белым от соседства желтых цветов. Да сколько же их — целая поляна! Пушистые венчика на длинных трубчатых стеблях тянулись к солнцу, а среди них лежала, подставляя лучам узкое нежное тело, незнакомая девушка. Длинный шелк волос золотистой завесой покрывал плечи, падал на лицо. Она приподнялась на локте, голосок прозвучал как в музыкальной шкатулке — тонко и жалобно.