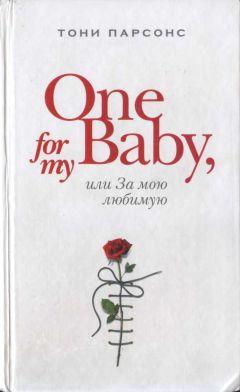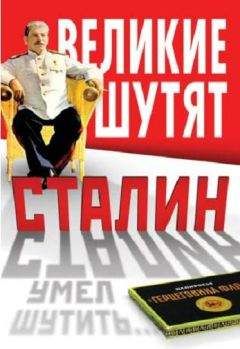Жан д'Ормессон - Бал на похоронах
— Ничего страшного, — сказал он, выпрямляясь и обращаясь ко мне. — Это просто эмоции.
…Как это буднично прозвучало: «просто эмоции»… А сколько у нас в жизни их было — этих «просто эмоций». Они возникали отовсюду; одни шли за другими, одни стирали другие; они затопляли нас и сплавлялись намертво с нашей жизнью. Они рождались, прежде всего, из красоты и любви, но их порождали также история, наука, политика, спорт. Нет формулы, которой можно было бы описать жизнь, которая всегда не есть то, что она есть… За Андре Швейцером я увидел Далла Порта и Адриена Казотта. Они всегда были людьми солидными, не склонными к сентиментальности, но сейчас они были расстроены, как какие-нибудь мидинетки. Вообще же их эмоциональность имела иную природу, нежели надрывающее душу горе Марго ван Гулип. Хотя жизнь жестко прошлась и по ним…
Нет ничего более фальшивого, чем затертый образ педанта-ученого, бесстрастно занимающегося своими исследованиями. Я часто наблюдал Адриена Казотта чуть ли не впадающим в транс над какой-нибудь шумерской надписью… и переживания эти были, пожалуй, острее, чем у юной девушки, целиком захваченной своей любовью…
С Далла Порта дело обстояло еще поразительнее. Он постоянно находился на связи со всей таинственной Вселенной, с каждым элементом бесконечно малого и бесконечно великого. Когда он говорил о нейтронах, лептонах, босонах, гравитонах, глюонах — всей этой бурлящей массе, которая скрывается за привычными формами предметов, заложниками которых мы являемся, — в него вселялось что-то сродни одержимости. Особенно его вдохновляли «кварки». Часто, когда я слышал, как он рассуждает об этих крошечных непонятных частицах, мне приходило в голову, что он… любит их настоящей любовью…
Я вспомнил, как однажды Ромен наивно спросил у него, существуют ли на самом деле все эти частицы, о которых он говорит чуть ли не с вожделением, или это всего лишь условные названия, которые исследователь дает наблюдаемым явлениям и которые не имеют под собой конкретной реальности. Лучше бы он этого не говорил! Далла Порта как с цепи сорвался! Перед нашими вытаращенными глазами он развернул всю Вселенную: от бесконечно малого до бесконечно великого, которые являются обратным отражением одно другого. Он растолковывал нам, что между двумя воображаемыми линиями на расстоянии миллиметра одна от другой могут располагаться миллионы атомов, и каждый из этих атомов заключает в себе целый мир, крошечный и одновременно необъятный, полный непознаваемых тайн…
Он прибавил еще, что нейтрино, как и следовало ожидать, почти неразличимы и что они имеют весьма отдаленное отношение к материи. И поскольку всех этих ужасов, имевших в его глазах столько очарования, ему показалось недостаточно, он завершил свою лекцию, призвав на помощь еще одни элементарные частицы, мало того что строго невидимые (это само собой разумеется), но еще и не определяемые никакими средствами; он назвал их «wimps» — «weakly interactive massive particles». Термин «wimps» можно перевести на французский красивым словом…
— Непонятки? — предложил Ромен.
— Лучше «воробышки», — поправил Карло.
О да! Все это: крошечное, неощутимое, материя на грани стирания и исчезновения — это было здорово. Но и огромное на грани бесконечного тоже было не хуже… Карло, астрофизик, больше всего любил устроиться вместе с нами под открытым небом прекрасной летней ночью или холодной ясной зимней ночью где-нибудь на террасе или в саду естественно, для того чтобы любоваться звездами. Они были очень далеко, а Вселенная к тому же еще и расширялась: астрофизик по имени Хаббл открыл и доказал, что мироздание не является неподвижным и постоянно растет, как дерево, ребенок или опухоль, и вот уже пятнадцать миллиардов лет непрерывно раздвигает свои границы…
…Мы созерцали мироздание, абсолютно раздавленные своим ничтожеством: нам оставалось только посыпать головы пеплом… Получалось, что мы были меньше, чем ничто в этом мире — столь необъятном, что мы даже не могли себе его представить, и в то же время мы были в нем, вероятно, единственными, кто мог воссоздать своим разумом концепцию этого мира…
…Да, двадцатый век, прежде чем стать веком национал-социализма и коммунизма, электричества, транспорта и скоростей, джаза, кино, пилюль «от всего», забытых лошадей, развала прошлого и уничтожения традиций, он стал веком математической физики: квантовой механики Планка, Бора и Броглио, которая занимается бесконечно малым, и всеобщей относительности Эйнштейна, которая занимается бесконечно большим…
…По словам Далла Порта, в конечном счете все сводилось к вопросу Лейбница — единственному настоящему вопросу, потому что на него никогда не будет ответа: «Почему существует что-то вместо ничего?» Когда Карло произносил эти слова, которые сейчас молнией блеснули в моей памяти, и еще многие другие слова, которые нам с Роменом трудно было понять в точности, его лицо светлело и по телу пробегала дрожь, и в этом было гораздо больше страсти ученого, чем голого интеллекта.
…Такие разные эмоции… Почему эмоции?.. Ах, да, это Андре Швейцер только что сказал: «Это просто эмоции» — потом выпрямился и повернулся ко мне… Королева Марго тоже выпрямилась. Провела рукой по лицу и чудесным образом стерла с него отпечатки возраста и боли, искажавшие его. И сразу вновь стала почтенной старой дамой, умеющей владеть собой и помнящей о своем ранге.
Мы вчетвером — Далла Порта, Казотт, Андре Швейцер и я — проводили Королеву Марго в машину, недавно подогнанную Беширом. Она опять бессильно упала на заднее сидение и сделала нам знак рукой:
— Идите, идите! Мне уже лучше. Нужно быть там…
Мы подчинились. Возвращаясь к могиле, Андре, с посеревшим лицом, схватил меня за руку.
— Боже мой! Боже мой! — причитал он в горести…
…И тут вспомнилось… Когда-то я уже слышал от него это «Боже мой»…
Я вижу его растерянным, мертвенно бледным, когда он сидел, наморщив лоб и обхватив голову руками, в бистро на улице Верней в Париже: это была весна 62-го, смутный период социальных волнений, предшествующий объявлению независимости Алжира и подписанию Эвианского договора. Андре был «голлистом» и «черной ногой», то есть не попадал в нужную струю. Он был из семьи колонистов, которых судьба давно уже забросила в Магриб[9], и он привык любить и уважать арабо-мусульманский мир, в котором вырос. А теперь история (столь милая сердцу Виктора Лацло) разрывала его пополам: он был осужден всем, что он любил, и, возможно, самим собой.
Я не помню всего, что он говорил мне тогда прерывающимся от волнения голосом. Я пришел на встречу с ним в кафе первым, держа в руках свежую газету «Монд» или «Фигаро». Крупные жирные заголовки кричали о том, чего следовало ожидать: о бесславном окончании войны в Алжире. Он пришел через несколько минут после меня в сопровождении Ромена. Он сел, взял в руки газету, лежавшую на столе, и произнес:
— Боже мой!
Мы дали ему выговориться. Я не знал Алжира. Ромен — тоже, не считая каких-нибудь эпизодических сведений. Андре же там родился и жил. Он рассказал нам, как события, которые мы видели «снаружи», происходили на самом деле там, «внутри». Это был взгляд «изнутри»… Впрочем, не совсем: сердце Алжира было арабским и мусульманским, а Андре был французом, христианином и потому «колонизатором»…
Проблемы копились давно. Их можно было проследить от самого года Диен-Биен Фу и Женевской конференции «Вьетминя» и Франции. Рене Коти только что был избран в тринадцатом туре голосования президентом Французской республики. Пьер Мендес Франс стал президентом Совета. Тунис и Марокко готовились выдвинуть требования о независимости. Только Алжир, состоявший из трех департаментов, казалось, был неразрывно связан с метрополией. «Алжир — это Франция», — заявлял Мендес Франс. И вслед за ним все политические деятели — правые и левые — считали невозможным идти на компромисс с оппонентами, когда речь шла, как они говорили, о стране как «нераздельном целом».
1 ноября в католический праздник всех святых в Алжире разразилось восстание, возглавленное десятком вождей Революции: Ахмедом бен Беллой, Хосином-Айт-Ахмед ом, Мохаммедом Будиафом, Мохаммедом Хадером, Белькасемом Кримом и другими; все они, за одним исключением, кончат изгнанием или насильственной смертью, революция всегда пожирает своих собственных детей… Последующим летом, в один из августовских дней, в полдень, повстанцами было совершено по всей стране одновременно более сорока террористических актов, в результате было зарезано около двухсот гражданских лиц, среди которых пятьдесят детей. В ответных репрессиях погибло около полутора тысяч мусульман. Так началась алжирская война.
Начиная с 13 мая 1958-го и до Эвианского договора и референдума 1962 года, с отклонения от курса самолета Бен Беллы и «дела базуки» с Жоржем Бидо и до последних действий OAS, все эти события унесли общим счетом более полумиллиона жизней. И всего лишь через несколько лет после немецкой оккупации и падения Республики, после режима Виши, соперничества между Петэном и Де Голлем, после всех подвигов и жертв Сопротивления эти события во второй раз резко раскололи национальное сознание французов на «за» и «против»…