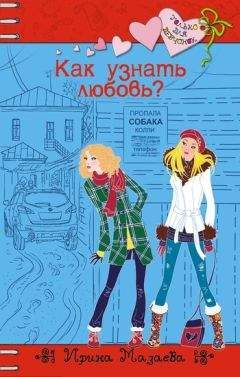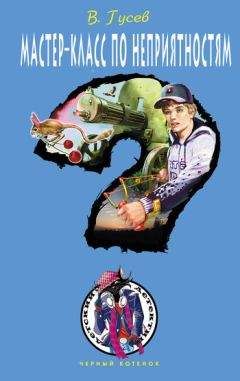Джон Ирвинг - Свободу медведям
— Эй, вы, там! — крикнул сторож. — Давайте спать!
Вспышка света дернулась к его голове, выставляя его на мое обозрение. Сторож осветил самого себя.
Я видел его в фас: пожилое лицо, слегка затененное инфракрасным светом, с длинным ярким шрамом, острым и тонким, идущим от седой, стриженной под ежик головы, мимо уха до левой ноздри, где шрам нырял в десну. Часть зазубренной верхней губы из-за этого немного торчала, обнажая ярко-красные верхние десны. Видимо, причиной этого была неравная дуэль.
Я видел его в удобном мне ракурсе — лицо и передняя часть его странной формы. Странной не только потому, что он сохранил эполеты, на ней сохранилась и нашивка с именем. Он был О. Шраттом — или когда-то был им. И если под этой формой теперь не О. Шратт, то почему он оставил прежнюю нашивку? О. Шратт — со временем сильно усохший. Преимущество, предоставляемое углом, заключается, как мне кажется, в том, что ты можешь узнать чье-то имя прежде, чем он увидит твое лицо. Этот сторож — О. Шратт.
Странно, но именно это имя я произносил раньше; и прежде имя О. Шратт срывалось с моих губ. Возможно, я знал какого-то О. Шратта — наверняка в свое время я знал одного из них. В Вене этих Шраттов хоть пруд пруди. Я совершенно уверен, что уже называл так кого-то. Так и есть, я в этом убежден: я имел дело с неким О. Шраттом и раньше.
Но этот О. Шратт был настоящим; он шарил лучом света по кронам дерева, в поисках оцелота или кого-то еще. Животные не спят, когда О. Шратт рыщет вокруг, и я тоже.
Я и теперь не мог спать, хотя О. Шратт вернулся обратно в Жилище Мелких Млекопитающих. Он ретировался от того места, где прятался я, притворившись незаинтересованным; небрежным шагом удаляясь по дорожке, он мог внезапно сделать круговой выброс света, разоблачая каждую пядь темноты вокруг. О. Шратт издает гласные звуки, потом водит кругом своим фонарем.
— А-а-а! — кричит он. — О-о-о! — поражая фигуры, таящиеся от света его лучей.
Теперь животные замолкли; стихли стоны, потягивания, вздохи, резкие падения, короткие, пронзительные крики в Обезьяньем Комплексе, чьи-то прыжки на трапеции и удары об отдающую эхом стену. Но я не мог заснуть.
Когда О. Шратт будет совершать очередной обход, я хочу проникнуть в его кроваво-красное укрытие и посмотреть, что заставляет старину О. Шратта включать инфракрасное излучение. Мне на ум приходит лишь одно: О. Шратт не тот человек, которому нравится, когда его видят. Даже животные.
Тщательно отобранная автобиография Зигфрида Явотника:
Предыстория II (продолжение)
Суббота, 12 марта 1938 года: 1.00 ночи в здании администрации канцлера на Баллхаузплац. Микласа впустили внутрь. Канцлер Австрии — Зейсс-Инкварт.
Зейсс-Инкварт совещается с генерал-лейтенантом Муффом. Они желают убедиться, что Берлин знает, что все под контролем и что германские пограничные войска больше не помышляют о пересечении границы.
Бедный Зейсс-Инкварт, ему следовало бы знать:
Если ты привел в дом львов,
То они захотят остаться на обед.
Но около двух часов именно Муфф звонит в Берлин и пытается помешать. Возможно, он говорит: «Хорошо, теперь вы можете отозвать свои армии домой; хорошо, у нас есть наши собственные политики, такие же, как и ваши; вам не нужно отираться у наших границ, потому что теперь все в порядке».
И в два тридцать, после неистовой перебранки между военным министерством, министерством иностранных дел и рейхсканцлером, личного адъютанта Гитлера просят разбудить фюрера.
— Разбудите любого в два тридцать ночи, — говорит дед, — даже человека благоразумного, и вы увидите, что будет.
В два тридцать Зан Гланц прижимает мою мать к двери большого холла, а бабушка по-прежнему не слышит, чтобы кто-то набирал номер телефона. Дедушка выносит наружу мелкий скарб: ящики с кухонной утварью, коробки с едой и вином, ящик с зимними шарфами и шапками и вязаные покрывала.
— Если не весь фарфор, — говорит бабушка, — то, может, хотя бы соусник?
— Нет, мутти, — возражает дедушка, — только то, что нам необходимо, — и окидывает последним взглядом комнату Хильке. Он спрятал орлиный костюм под зимним бобриковым пальто.
На кухне бабушка опустошает полку со специями и заворачивает маленькие баночки в пальто, рассуждая так: все, что угодно, сдобренное достаточным количеством специй, будет похоже на еду; затем наступает очередь радио.
Бабушка шепчет с лестницы:
— Я заглянула в машину, у нас остается еще одно свободное место.
— Я знаю, — говорит дедушка, думая о том, что можно захватить кого-то еще, кто покидает Вену до рассвета.
Но не Шушнига. Он покидает Баллхаузплац, пожимает руки охране, у которой на глазах выступают слезы, они игнорируют нацистское приветствие группы горожан со свастикой на рукавах.
Извиняющийся Зейсс-Инкварт везет Шушнига домой — на десять недель домашнего ареста и на семь лет застенков гестапо. И все потому, что Курт фон Шушниг утверждал, будто никакого преступления он не совершал, и отказался от защиты венгерского посольства — не присоединился к монархистам, евреям и некоторым католикам, которыми, начиная с полуночи, набиты чешские и венгерские таможенные терминалы.
Дедушка обнаруживает, что весь транспорт движется в обратном направлении, на восток. Но, кажется, дедушка догадывается, что чехи и венгры будут следующими, и он не хочет, чтобы его снова вынуждали ехать, особенно в том случае, если не будет выбора, куда ехать: на восток или на запад, а только на восток — в Россию. Мой дедушка живо представляет себе, словно кошмар, как их прибивает к Черному морю, как их преследуют казаки и волосатые турки.
Поэтому, двигаясь на запад, он не встречает попутного транспорта. Санкт-Вейт погружен в темноту, Хикинг еще темнее. Только освещенные трамваи продолжают двигаться в дедушкином направлении; кондукторы машут флажками со свастикой; на остановках группы мужчин с повязками на рукавах и значками горланят песни; кто-то выдувает на трубе одну ноту.
— Это самый быстрый путь на запад? — спрашивает моя бабушка.
Но дедушка находит дорогу. Он останавливается перед единственным освещенным курятником в Хикинге.
Эрнст Ватцек-Траммер ощипал и насадил на вертел трех безымянных цыплят над тлеющими углями на полу курятника. Он терзается над остатками своего курятника. Дед и патриот собирают ведро яиц, наливают воды и варят яйца вкрутую. Ватцек-Траммер режет и ощипывает своего лучшего каплуна — его тоже бросают в ведро вариться. Затем они связывают ноги четырем лучшим курам и племенному петуху. Хильке яростно заворачивает их в одеяло, они начинают биться на полу машины под задним сиденьем, напротив скрученной в длину шинели, которая отделяет моего дедушку от моей матери. Эрнст Ватцек-Траммер усаживается на переднее сиденье рядом с дедом, каждый со своей стороны от кухонной утвари, ведро с яйцами на полу между ними. Перед тем как уехать, Ватцек-Траммер выпускает своих кур на свободу и поджигает курятник. В отделение для перчаток он кладет свой лучший мясницкий нож.
Три безымянных цыпленка, посаженных на вертел и зажаренных, а также только что сваренный каплун — слегка недоваренный — разрываются на части Ватцеком-Траммером, пока дедушка ведет машину. Эрнст раздает куски цыплят и сваренные вкрутую яйца, в то время как дед поворачивает на юг, через Глогниц и Брюк-ан-дер-Мур, затем на запад и даже немного на север — к краю гор. Он решает ехать прямо на запад к Санкт-Мартину.
Это далекий путь из Вены; они вынуждены брать курс к югу от Линца, к тому же у них заканчивается бензин. У «мерседеса», бывшего когда-то такси, закипает радиатор — хотя на улице март, — и Эрнсту Ватцеку-Траммеру приходится остужать его водой из ведра с яйцами.
Моя мать на заднем сиденье не произносит ни слова. Она еще чувствует колени Зана Гланца меж собственных колен, чувствует его отчаянный вес, заставляющий ее спину тереться о парадную дверь.
Бабушка говорит:
— Живые цыплята пахнут.
— Нам нужен бензин, — говорит дедушка.
В Праггерне они обнаруживают, что празднование все еще продолжается. Дедушка приспускает стекло со своей стороны и останавливается рядом с полицейским в расстегнутой на груди униформе — повязка со свастикой почему-то растянута настолько, что сползает через голову на шею. Трудно сказать, сам ли он натянул ее, или ему сжимали голову, пока кто-то натягивал повязку.
Ватцек-Траммер приоткрывает отделение для перчаток и придерживает его своим коленом, над ним поблескивает мясницкий нож. Мой дед отдает нацистское приветствие через окно.
— Рад видеть, что сегодня вся страна не ложится спать, — говорит он.
Но полицейский заглядывает в машину и с подозрением смотрит на ведро с яйцами и завернутых в тряпку цыплят.