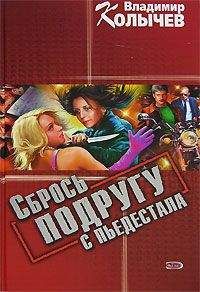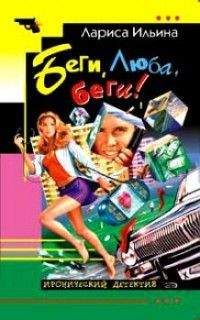Артур Филлипс - Прага
— Это было очень смелый, правда?
— Он смелый человек, наш Скотт, — соглашается Джон и касается ее щеки Садится прямо, будто с него сняли груз, и старые раны зарубцовываются ровно, в спешке наверстывая время: для него у Скотта ничего нет, никакое будущее невозможно. Годами Джон преследовал удаляющуюся спину, и вот догнал, схватил, развернул и заглянул в лицо — и увидел, что гнался не за тем парнем. Скотту понадобилось Джоново прошлое? Ради бога, пускай пользуется; Джону оно уж точно не нужно. Джон с радостью обменяет его на настоящее: жаль только, что Скотт не хочет всерьез заполучить Марию, а то было бы еще забавнее: этот цветочный запах и ее близость. Разрешающая улыбка. Она не сразу прячет губы. Нерешительно отвечает. Потом теплая щека, может быть — мягкий отпор? Но потом снова губы. Его рука на просторной футболке с символом Скоттовой альма-матер; картинка с талисманом колледжа, шелушащаяся от небрежной стирки, искаженная изгибами Марии, щекочет Джону ладонь. Улыбаясь, Мария кивает на часы, на время, оставшееся до прихода Скотта:
— Он смелый человек, наш Джон.
Часть вторая
«Хорват Киадо»
I
Спроси Имре Хорвата, на юношеском и слегка пьяном кураже, что-нибудь выспреннее: о его предназначении на этом свете или о смысле жизни. Или, бессмысленно убивая время, глазом на блондинке в дальнем конце людной комнаты, спроси у него что-нибудь мелкое, например, почему он при каждом удобном случае, даже сейчас, на этом коктейле, выпивает стакан молока. Озаботившись состоянием своего дипломатического гардероба, спроси, отчего его итальянские костюмы так чудесно скроены и безупречно вычищены при нынешнем состоянии венгерской швейной промышленности. Задумывая книгу или статью (которая вряд ли продвинется дальше нескольких пунктов, накарябанных на влажной салфетке), спроси его, может ли его страна вернуться к коммунизму, устоит ли демократия. Нащупывая общие темы, спроси, что ждет в этом году венгерскую сборную по футболу. Постарайся понять эту маленькую страну, где проводишь несколько дней со сбитым после перелета биоритмом, перед тем как окунуться в венские красоты и пражские тусовки, и спроси, от кого сильнее пострадал его народ — от фашистов или от русских. Спроси Имре Хорвата о чем угодно, иностранец, ответ его всегда начнется примерно одинаково.
Он начнет с необъяснимо мягкой улыбки. Если ничего не знать об этом человеке, в этой первой улыбке чудится обезоруживающее глубокомыслие, неопределенное веселье и даже что-то нелепое, только непонятно, что. Кажется, он знает такое, что не может себя заставить рассказать тебе, и вас обоих это смешит, но — по-разному.
А если ты что-то знаешь о его жизни, если хозяин дома уронил пару намеков о том или ином ее повороте, эта прелюдия немедленно лишается всякой комичности: Имре Хорват становится одним из тех редких и значительных людей, над которыми просто немыслимо смеяться. Может быть, ты слышал об аресте. Имре потерял все, бежал из Венгрии, чтобы возродить семейное дело, несколько раз возвращался, несмотря на маячившие угрозы и даже на оправдавшиеся угрозы. Ты слышал, что он делил тюремную камеру и, возможно, камеру пыток, с людьми, которые теперь по сказочной справедливости 1989—90-го возведены к власти свободным выбором Венгрии.
Тогда в его улыбке ты подозреваешь нe веселье, а напряжение. Ведь он, наверное, ужасно настрадался в лапах коммунистов, и ты представляешь, как его улыбка всплывает к поверхности сквозь плотные слои чудовищных воспоминаний; чтобы заслужить проявление вовне, ей нужно показать себя сильной, доказать, что она сильнее, чем вездесущая память тирании (которая, насколько тебе известно, бывает не менее горька, чем сама тирания).
Имре Хорват высокий крупный мужчина, мощь читается в его осанке и голосе, движениях, в его больших руках. Густые стального цвета волосы ровно текут назад серебряным водопадом почти до плеч. Для его возраста они длинноваты, но, кажется, Имре не хочет казаться моложе. Глаза прозрачно-синего цвета — цвета мелкой воды в бассейне. Они чистые, даром что Имре шестьдесят восемь, белки без прожилок. Его взгляд дает понять, что этого человека не раз испытывали, что за этими скорбными, озорными глазами — глубины, которых тебе не измерить, и все же он с радостью постарается ответить тебе, если сможет, дабы ты лучше понял время, которое для тебя (как дает понять улыбка Имре Хорвата) вроде древней истории. Потому что ты ребенок и приехал из страны детей.
Ты становишься, наверное, слишком чувствительным. Тебе кажется, что-то многозначительное кроется в этих мускулах и коже вокруг глаз, когда он щурится (при стопроцентном зрении), в бровях, которые сходятся вместе, и, встретившись, ползут вверх и там разлучаются в тихом, тихом веселье, которое само по себе есть героизм после бог знает скольких стараний бог знает каких сил раздавить его.
Когда ты задашь ему свой маленький вопрос — глубокий или глупый, о десерте или деспотии, — он, кажется, дивится такому милому и невероятному торжеству Жизни и Справедливости, после которого появляется мир, где молодой человек вроде тебя (хотя ты можешь быть почти таким же старым, как сам Имре) процветает и самовыражается, свободный от диктаторов, и у него есть время и возможность распутывать вопросы вроде вот этого. Имре Хорват высоко ценит эту новую жизнь, очаровательно явленную в тебе и твоем любопытстве.
Проходит всего секунда-другая, и он начинает: «Ооо, друг мой…» И это «ооо» — такой же богатый звук, как от долгого протяга смычка по открытой виолончельной струне, полный переживаний, истории и все того же тихого веселья: «Ооо, друг мой, вам надо понять, как это было — жить здесь, — говорит он с акцентом, изобличающим давнюю привычку к плохому английскому. — Я никогда, или, пожалуй, сначала надо сказать… нет. К чему зарываться в дебри. В этом ничего нет, кроме старческого… Лучше вот: не так уж давно, но раньше, чем вы приехали посетить нашу прекрасную страну и поселились здесь в нашем скромном Будапеште, тут было все по-другому. Да, на поверхности все было, как сейчас, но на самом деле сильно отличалось от того места, которое радует вас сегодня. Я люблю новые ночные клубы с танцами, их принесли в нашу жизнь молодые люди. За это мы вам очень обязаны… Ооо, понимаете, тогда здесь не было места в этом народе такому, кто не сгибался, кто не глотал ложь, кто отказывался быть как попугай в комнате идиотов. Не было места вообще для такого, такого, сказать ли — дурака, как этот, или только место ему было в казематах. И все же быть вот настолько таким, этим дураком, которому нет места; такой же невозможный тип, как мифическое существо какое-нибудь, с телом льва и человеческой головой, только реальный. Реальный, но невозможный. Представляете, каково это — быть таким, этим таким в таком месте? Надеюсь, вам никогда не придется. Вам очень повезло, вам были даны отличные вещи. И вы будете делать отличные вещи, я это вижу у вас внутри, да, да, безусловно. Но тогда, раньше, бедным идиотам в правительстве, в кабинетах тайной полиции и других игровых комнатах для недоразвитых жестоких детишек, что этим несчастным дуракам было сделать, когда такой дикий зверь гуляет на свободе? Они останавливаются. Таращатся. Вспоминают указания. Читают секретные инструкции и устраивают секретные совещания. Они стараются быть жестокими, потому что у них не хватает воображения хоть что-то делать по-другому. „Мы не можем признать, что такое существует, — говорят они. — И нам некуда его деть, и вот он там стоит, материальный, как дерево. Сказать людям, чтобы не смотрели? Или сказать, что он не то, чем кажется? Или ничего не говорить? Может, он сам уйдет. А можно такого зверя убить, или он оживет?“ Такие вот сложности вытягивает за собой ваш замечательный вопрос, мой друг. Оооо, трудно сообразить, что и сколько вам надо рассказать…»
Твой вопрос забыт, ты первый его и забыл. Или ты задал его, чтобы просто поддержать беседу, не предполагая, что такой человек станет обсуждать с тобой серьезные вещи, и теперь приятно удивлен, почти напуган этим доверием, или ты тужился спросить то, о чем, как ты теперь понимаешь, ты не знаешь почти ничего. И вот сейчас тебе откроют существо дела — бесценный дар, сейчас, на этом коктейле, тебя, который иначе так и плыл бы по жизни, замечая лишь то, что на поверхности, превыше всех надежд удостоят быстрым показом того, какой бывает настоящая жизнь. Этот живой символ, выстоявший под напором Истории, сошел с постамента и со своего гранитного коня, чтобы встать рядом с тобой, мрачно кивнуть и позволить тебе положить свою дрожащую лилипутскую руку на его бьющееся сердце.
И при этом он не лишен Скромности.
— Надеюсь, я вас не утомляю этим глупым разговором.
В каждом жесте и слове — невысказанная убежденность: все, что он сделал или сказал, — точно и обязательно то, что сделал и сказал бы ты. И со смиренным кивком, и краснея от удовольствия такому маловероятному и откровенно немыслимому комплименту, ты благодаришь Скромность, выбравшую момент в таком, должно быть, насыщенном распорядке, чтобы передать послание столь недостойному слушателю.