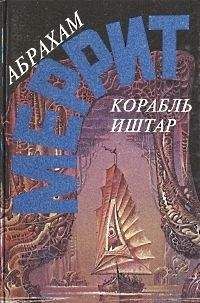Белобров-Попов - Русские дети (сборник)
И он без промедления уселся за руль.
У меня, как когда-то в детстве, сработала шкодливая жилка.
— Ну-ка, ну-ка… — И я с самым заинтересованным видом придвинулся поближе к компасу.
Вахтенный начальник действительно очень хорошо управлялся… пока я не приблизил к компасу свою левую ногу с её стальными шинками. Картушка тотчас покатилась в сторону! Какой там «один градус», какое что!.. Парень ахнул, налёг на румпель, судно резко пошло в сторону, грозя совершить опасную смену галса… Я тотчас убрал свою злокозненную ногу и сполна насладился конфузом рулевого, мигом бросившего яхту в обратную сторону. Он недоумевал. А когда я раскрыл причину происшедшего — в первый момент порывался дать в ухо, но смешливый характер всё-таки взял своё, да и пошатнувшаяся было репутация рулевого была спасена.
На самом деле, когда люди оказываются в изоляции и в довольно-таки скученных условиях, без шутки и смеха им никуда. Иначе недолго и перессориться, и последствия могут быть самыми серьёзными. Когда моя дочь стала плотно изучать викингов, ходивших, как известно, в далёкие плавания, я даже не удивился, узнав, что эти вроде бы замкнутые, суровые люди использовали любой предлог для розыгрыша и подначки.
Всё становится понятным, когда прочувствуешь это сам.
Знакомая дочери, детская поэтесса, написала милое стихотворение про бакен, который весело пляшет в волнах, указывая судам путь «в Кронштадт и Лахту». Дочь попыталась ей объяснить, что бакен — это на реке, а в море всё-таки буй. И ещё, что помимо раскраски и светового сигнала буй снабжён ревуном, который помогает судоводителю не сбиться с фарватера при плохой видимости, например в тумане. Когда буй раскачивается на волне, специальное устройство на одной её фазе набирает воздух в особую полость. На другой фазе воздух выталкивается через гудок, и буй ревёт. Но что это за звук! Это жуткие, ни с чем не сравнимые рыдания, вздохи и стоны из загробного мира!.. — Я так вижу, — обиделась поэтесса, мельком наблюдавшая буй из окошка быстроходной «Ракеты».
Однажды вечером, когда я сладко спал перед ночной вахтой, меня растолкали и потребовали наверх к капитану. Зевая и досадуя, я выбрался на палубу… Капитан указал мне на подаваемые с довольно далёкого и уже невидимого в сумерках берега световые сигналы, явно предназначенные нам. Капитан знал, что во время войны мне довелось служить в разведке радистом, и просил прочитать световое послание, судя по всему исходившее от пограничников. В войну я сигналы азбуки Морзе принимал на слух, да ещё интерпретировал их латынью… Но обстоятельства требовали — пришлось поднатужиться. По счастью, в яхтенном хозяйстве нашёлся карманный фонарик, снабжённый кнопкой, и я вступил в переговоры. Пограничники с поста запрашивали название яхты, её номер и наш маршрут. Я ответил. Погранпост удовлетворился и пожелал нам счастливого плавания. Если бы мы не отозвались, они выслали бы катер и задержали нас для досмотра.
Интересно, как решали бы подобную проблему сейчас, в случае отказа рации и сотовых телефонов? Азбуку Морзе теперь почти никто не знает, о семафорной азбуке я уже вовсе молчу. Когда в кино показывают работу радиста на ключе или матроса, размахивающего флажками, «передают» они, как правило, откровенную галиматью.
А с телеэкрана нас запугивают апокалипсисом: солнечная вспышка вот-вот лишит нас Интернета, мобильной связи и GPS, и тогда всё — хаос, крах, прекращение цивилизации. Может, лучше всё-таки не забывать про основы?
Несколько лет назад в Москве случилась крупная авария в энергосети, город буквально «погас». В новостях показали заседание городского правительства: на фоне приунывших коллег невозмутимым выглядел только транспортный министр.
— А что? — сказал он. — Хоть сейчас выгоним на линию тепловозы. А совсем припечёт, так у нас под рукой паровозы законсервированные стоят…
Вот это по-нашенски!
…А зелёный луч в том своём походе, который мне казался последним, я всё-таки увидел. Яркая изумрудная звёздочка плавно зажглась на далёком горизонте, куда как раз уходил краешек солнца. Она горела секунды две, затем так же плавно угасла… Красота неописуемая! Такая, что даже не хочется рассуждать об особенностях преломления света и особых атмосферных условиях. Красоте это не нужно. Море прощалось со мной, зная, что я непременно вернусь…
Дважды в своей жизни я оказывался «предметом исследования» у людей, называвших себя экстрасенсами. И буквально первым, что я слышал от обеих довольно экзальтированных дам, было:
— Вы умрёте от воды!
Тут впору задаться вопросом об этике. Вот так взять и с бухты-барахты вывалить человеку достаточно пугающую информацию? А кроме того, с тех высот, на которых я в данное время витаю, позвольте ответственно заявить: не сбылось! Я умер вовсе не от воды. И даже не от внутренних жидкостей, — хотя они, как и тот пруд в Серебрянке, однажды всерьёз пытались меня погубить.
В юности я подхватил жуткий плеврит. Если кто не в курсе, это болезнь, при которой плевральная полость, окружающая лёгкие, начинает заполняться жидкостью. Она мешает им расправляться и давать кислород организму. Заболев, я тут же полез в медицинскую литературу. Сам себе поставил диагноз — и до посинения спорил с врачихой забытой Богом больницы, где меня столь же упорно, сколь безуспешно лечили от воспаления лёгких. Докторша в итоге признала мою правоту и наконец-то назначила спасительную процедуру. Мне вставили между нижними рёбрами длинную толстую иглу и откачали большой стакан чего-то зеленоватого. С этого момента я начал поправляться.
А доморощенных экстрасенсов я никогда не боялся. Мне было с чем сравнивать: я самому Вольфу Мессингу когда-то пожимал руку. Но это, как говорится, уже совсем другая история…
Сергей Самсонов
Поорёт и перестанет
Сегодня был — был на носу и наконец сегодня наступил по расписанию всеобщей жизни взрослых — Новый год. Хан сразу вспомнил это, как проснулся, и ему сразу же изо всей силы захотелось заснуть обратно и не просыпаться, так глубоко уйти в подушку и так глухо, до черноты накрыться одеялом, что будто нет его и не было никогда на земле вообще. Он ненавидел Новый год.
Действовал горький опыт невозможности: Новый год был всегда у других; ничего у них с Гулькой не будет и в этот Новый год, как у всех; будет всё как и в прежние Новые годы: мать запустит гостей — Колю-Колю, Крокодилыча-Гену, Антошу и двух братьев-Сашков-Дикарёвых, таких одинаковых, что их путают даже их жены и «даже по члену», и тёток: Пипилюсю, Тамару, которую все называют ещё Королихой, Дикарёвых, которые путают «по члену» Сашков, — Педеничку и Синди — всех в праздничных золотисто-серебряных кофтах и пятнистых, как шкура леопарда в программах о дикой природе, непонятно коротких по зиме, тесных юбках, которые задираются на задницах и ляжках до мест, через которые женские люди ходят в туалет по-маленькому, — детям можно показывать трусы и колготки в этих самых местах, а у взрослых — противно смотреть… и начнётся, начнётся — пересыпчатым звоном бутылок и гомоном, шквально переходящим в упорные вопли и визги такие, будто брызнуло им там, всем бабам, на живот кипятком, вот сейчас загрызёт их неведомо кто, — «гоп-гоп-гоп-шина-гоп, мы весело спеваем!» без конца, без пощады… и, конечно, от страха перед этой визжащей, пробивающей пол, потолок «шина-гопой» Гулька заплачет, будет резать своим криком взрослых за дверью — звать маму, единственные руки, которые, обняв, всё сделают нестрашным: волк уйдёт… но никто не услышит — ни сразу, ни потом, ни вообще…
— Витя, Витя, ну, Витя, вставай!.. — всё настойчивее, звонче канючила Гулька — то подчинённо-гладящим, мяукающим, ластящимся голосом, то гневно-теребящим, то с испугом — что он, брат, не шевелится в ответ, то с какой-то уже безутешной надеждой: ну не может она оставаться одна, ей без Вити никак, ей самой тогда хоть не вставай… поднимало его понимание, что если не он, то тогда уж никто — если мать заболеет надолго — о Гульке в этой комнате, доме, всей жизни не встревожится, не позаботится; должен он, нужен он, уже взрослый, мужчина — Тимутчин, что заботился с ранних лет о своей тимутчинке-сестрёнке и поэтому всегда уходил от погони, оставался живым на морозе в степи… и всегда он вставал — вырастая, — расправлял и натягивал каждый сантиметр своего ещё малого тела словно в глупом желании, в усилии моментально стать взрослым, таким сильным и умным, что он сможет заботиться о сестре целиком — зарабатывать деньги, ремонтировать дом, добывать и готовить на кухне еду…
Гулька сидела за своей деревянной решёткой, как человеческий детёныш в клетке зоопарка, неизвестной породы зверёк, мурлехрюндель, ежонок с блестящими, как мокрая смородина, хитрющими глазами и нежными, смешными складочками на щеках, и осчастливленно-лукаво улыбалась во все зубы.