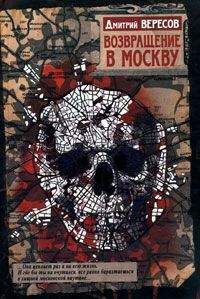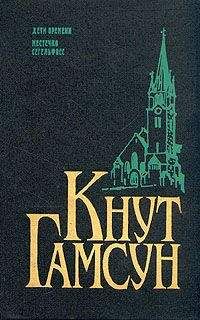Энтомология для слабонервных - Качур Катя
– Ревную? С ума сошла? Да я на тебя всю жизнь молиться буду! – Губы Ульки задрожали.
С тех пор Зойка-хоронилка стала неоспоримой частью семьи. В начале шестидесятых ей исполнилось восемнадцать, она мечтала поступить в институт, только бы находиться поближе к Ульке с Аркашкой. Зубрила физику и математику, но тщетно. Как-то специально приехала из интерната в город, чтобы Аркашка проверил её знания. Гинзбург набросал несколько лёгких задачек и уравнений, Зойка долго пучила глаза, трепала руками волосы, сопела, кряхтела и наконец протянула ему исписанный тест. Аркашка посмотрел на тетрадный разворот, исчёрканный синей ручкой, и скомкал его в тугой шарик.
– Зойон, прости, – сказал он, прицеливаясь бумажным комком в ближайшую урну. – Но с таким уровнем знаний тебе можно поступить только в начальную школу.
– Зачем ты так? – дёрнула его за рукав Улька. – Ну не в начальную школу, в училище… – смягчила она приговор.
– Да нет, он прав, – вздохнула Зойка. – Я абсолютно тупая. И никуда дальше интерната мне не уйти…
В городском саду было многолюдно. Тёплый октябрь трепал листья клёна, и они, податливые, срывались и летели на землю, маскируя её оранжевыми ладонями, как вышивальщица гладью покрывает полотно жирными цветными стежками. Внезапный порыв ветра принёс одинокую безумную тучку, и та расплакалась прямо над парком, застав врасплох беззонтиковую толпу. Клён, росший прямо над лавкой, вошёл в положение тучки и под её слезами резко сбросил добрую половину листьев на голову сидящей молодой троицы. Зойка неожиданно вздрогнула и горько зарыдала. Улька за всю свою жизнь не видела Зойкиного плача. Та и вправду ревела неумело, не закрывая лицо руками, не вытирая пузырящийся нос платком, громко всхлипывая и пугаясь самой себя. Пятипалые листья ложились на её макушку и голые колени, небесная вода хлестала лицо, будто пощёчинами пыталась отвлечь от легкомысленного горя.
– Зойка, ты чего? – Аркашка с Улькой, растерявшись, смотрели на подругу-неудачницу и не понимали, что делать.
Гинзбург очнулся первым, снял с себя лёгкую куртку и набросил на голые Зойкины плечи – из Больших Прудищ Макарова приехала в одном летнем платье.
– Я прос-то о-чень рада за вас, – глубоко всхлипывала Зойка, – вы ум-ны-е, кра-си-вы-е, вы зас-лу-жи-вае-те счас-тья… А я… про-сто Зой-ка-хо-ро-нил-ка, я вам не-ров-ня!
– Ты дура, Зой. – Улька тоже зарыдала, горячо обнимая Зойку. – Ты моя дура, моя спасительница, моя тень… Куда я без тебя?
– Прав-да? – Макарова дышала, как загнанная борзая. – Я нуж-на тебе?
– Конечно, нужна! Аркашка, ну что ты молчишь? – Улька ревела, растирая на щеках смешанные с дождём слёзы. – Скажи что-нибудь, ты же умный!
Аркашка, мокрый насквозь, впал в ступор. Две плачущие девушки, чокнутая туча, ополоумевший клён, растрёпанные, как воробьи, горожане, тулящиеся под деревьями, – всё это, как математическая формула, вонзилось в его память. Не понимая зачем, мозг сохранил сиюминутную картинку навсегда. Может, от яркости внезапных эмоций, а может, как точку, после которой жизнь троицы кардинально изменилась, а судьбы сплелись в такой плотный узел, что распутать его не довелось никому. Да и, наверное, было незачем…
– А пойдёмте ко мне домой! – вдруг просветлел Аркашка. – Познакомлю вас с мамой-папой, пообедаем, согреемся!
Они вскочили с лавки, добежали до остановки и повисли на подножке утрамбованного пассажирами трамвая, который недовольно тренькнув, заскользил по мокрым рельсам на другой конец города. Дверь открыла мама Бэлла Абрамовна, в нарядном, явно не домашнем платье, чулках и туфлях. При виде абсолютно мокрой троицы она изумлённо подняла бровь.
– На улице солнце, – констатировала она. – Вы провалились в арык? – Бэлла Абрамовна жила ещё ташкентским прошлым.
– Просто одинокая тучка, ма, – протараторил смущённый Аркашка, – мы к обеду. Это Булька, это Зойон.
– Скажите, пожалуйста, Зулька и Бойон! – артистично развела руками мама. – Милости просим, стол уже накрыт!
Они разулись и пошли по длинному коридору, оставляя на недавно покрашенном полу влажные следы. Справа виднелись комнаты с распахнутыми дверями, в середине узкого коридора располагалось небольшое углубление-ниша, где возле зеркала стоял кривоногий туалетный столик. Улька замерла, не в силах двигаться дальше. На столике шеренгами выстроились сказочные коробки и бутылочки. Похожий на жёлто-коричневый огурец флакон с золотой крышечкой (Caron – успела прочитать на этикетке Улька), несколько открытых помад-огрызков разных цветов, рассыпчатая пудра в фарфоровой баночке и – о боже! – пуховка, небрежно брошенная рядом прямо на древесину столешницы. Пуховка была в форме куколки, верхняя часть которой представляла собой головку и стан также из цветного фарфора, а от талии шла плотно набитая ватой атласная юбка. Всё это великолепие венчалось добрым слоем пуха, испачканного в розово-бежевой пудре. Улька закрыла глаза и через нос набрала полную грудь пыльно-пудрового воздуха. Ниша пахла ирисами и фиалками, которые разводила Маруся в дальней части огорода, шарами белоснежного бульдонежа, растущего в городском саду, потёртыми бархатными шторами, если таковые имеют запах, и толикой влажной похоти. Улькина голова закружилась, зеркало отразило тонюсенькую девчушку с копной завитых русых волос, в мокро-синем ситцевом платье, с блаженно прикрытыми глазами и улыбкой на светлом лице. Она стояла на фоне афиш, наклеенных вплотную по всему коридору. С их матовых, шершавых полотнищ в то же зеркало смотрела Бэлла Абрамовна в костюмах и головных уборах прошлых веков, накрашенная теми самыми помадами и обласканная волшебной пуховкой.
– Что с вами, деточка? – спросила живая мама, прищурив карий глаз. – Вам плохо?
– Очень хорошо, – разволновалась застигнутая врасплох Улька. – Вы такая красивая на этих афишах! Вы – актриса?
– Мама – экономист. А по вечерам играет в народном театре, – пояснил Аркашка.
– Дорогая, я – актриса по призванию. А экономистом работаю только ради того, чтобы меня не сожрала родная семья, – улыбнулась Бэлла Абрамовна. – Искусство редко приносит деньги, вы же понимаете.
Улька закивала, хотя ничего не понимала. Они прошли на кухню мимо закрытых дверей в туалет, откуда доносился странный клокочущий звук. Зойка уже вовсю тараторила с отцом. Ефим Натанович, также не по-домашнему одетый в брюки и рубашку, маленький, бойкий, прыгучий, с бесконечно добрыми голубыми глазами и радушной улыбкой, усаживал её за стол в дальний угол.
– Вы – худенькая, Зоя, как раз уместитесь в торце, – приговаривал он, но, увидев входящую Ульку, всплеснул руками: – А эта ещё тощее! Где ты таких набрал? – обратился он к Аркашке, смеясь. – Их вовек не откормить!
– Руки мыть в кране на кухне! – скомандовала Бэлла. – К сожалению, в ванной у нас конфуз. – Она театрально-осуждающе посмотрела на мужа.
– Да-да, конфуз. – Он как-то сразу сник, погрустнел, будто вспомнил о чём-то непоправимом.
Вымыв руки, обе девушки уместились между стеной и торцом прямоугольного стола. После того как расселись Бэлла с Ефимом, осталось ещё одно свободное место. Напротив него стояла пустая расписная тарелка.
– Мы ещё кого-то ждём? – бесцеремонно спросила Зойка.
– Как знать, – опять же артистично закатив глаза, ответила мама.
Улька прижалась к Зойке поплотнее и оглядела стол. Это было вторым потрясением после духов и пуховки. На белой скатерти во всей красе развернулся обеденный сервиз в розово-бежевой гамме. Посередине раздулась благоухающая супница с рисованными пионами, на блюде с такими же цветами возлежало мясо, овощной гарнир дымился в вазоне чуть поменьше супницы, в соуснице жирным облаком таяла сметана, в маслёнке – свежий брусок сливочного масла. Надо ли говорить, что тарелки – одна на другой, глубокая на мелкой, – тоже были розово-бежевыми, с пионами по канту. «И ни одного скола, заметь», – шепнула Зойка ошалевшей от такого великолепия Ульке. Большим мельхиоровым половником Бэлла разлила всем густой куриный суп с запахом кореньев и специй. Зойка хищно схватила ломоть белого хлеба и личным ножом, лежавшим справа от тарелки, намазала толстый слой масла. Улька толкнула её локтем в бок: дескать, соблюдай этикет, это не интернат. Сама она зажалась настолько, что не могла отхлебнуть и капли бульона. Когда наконец преодолела себя и поднесла ко рту ложку, Бэлла спросила: