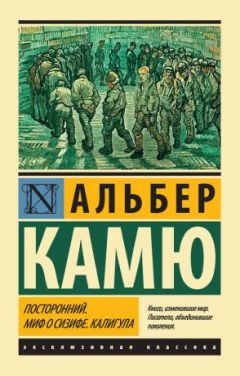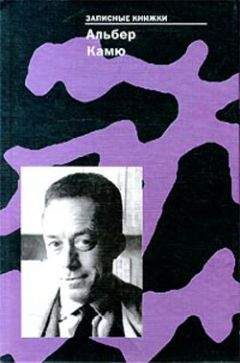Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Поначалу женщина держалась наособицу, и Оси, и Заржецкой сторонилась, но через неделю пообвыкла, рассказала Осе, что её зовут Казимира Климас и она заведующая юридическим отделом Охматмлада. «Отделом чего?» – недоумённо переспросила Ося, и женщина пояснила снисходительно: «Охрана матери и младенца». Климас не сомневалась, что арест её – явное недоразумение, в котором органы очень быстро разберутся, и если ещё не разобрались, то только по той простой причине, что слишком много у них работы, слишком много вокруг настоящих врагов. Ося не стала спорить, вспомнила с грустью о Шафир, подумала, что та была права, похоже, что раскручивают большое польское дело. Саму Осю вот уже неделю не трогали, но что это означало, она понять не могла.
В камере сделалось тесно, ходить стало невозможно – только протискиваться между кроватями. Беспрерывные стенания Заржецкой доводили Осю до с трудом сдерживаемого бешенства, равно как и непробиваемая уверенность Климас, что её вот-вот отпустят. Вдобавок стала сказываться скудость тюремного пайка. Сохла и шелушилась кожа, каждая царапина заживала неделями, и всё время хотелось есть. По ночам ей снились то ароматный грибной суп с плавающим посередине белым островом сметаны, то жареная рыба с хрустящей тающей корочкой, то зразы с пшённой кашей – её коронное блюдо, так любимое Яником. Спасали книги. Ни Климас, ни Заржецкая не читали, и Ося выписывала книги за троих.
Климас проводила дни в ожидании, когда её отпустят, вскакивала на каждое громыхание заслонки, на каждый звук, доносившийся из коридора, стучала в дверь, изводила надзирателей требованием вызвать её на допрос. Узнав, что Осю обвиняют в шпионаже, перестала с ней общаться и поменялась местами с Заржецкой. Та, напротив, разговорилась, сказала сквозь слёзы, что её тоже обвиняют в шпионаже. Она работала кассиршей в кинотеатре «Рот Фронт». Какой-то зритель забыл в зале книжку на иностранном языке. Заржецкая выставила книгу в окне кассы, надеясь, что забывший объявится. Через три дня по доносу её забрали. Доносивший утверждал, что Заржецкая с помощью книжки передаёт сигналы иностранным агентам. На воле у неё оставались старуха-мать и сын-подросток, инвалид с сухой ногой; муж бросил их много лет назад, и все трое жили на её крошечную зарплату. «Как они жить будут?» – спросила она Осю, заливаясь слезами, и Ося не нашлась, что ответить.
Климас вызвали на допрос. Вернулась она быстро, села на пол, уставилась взглядом в стену и так просидела до самого вечера, отказываясь и от еды, и от воды. Заслышав звук отворяемой заслонки, Ося поднимала её, усаживала на табуретку, но она тут же бесформенной кучей сползала на пол. Ося попыталась её разговорить, она глянула круглыми глазами с панически расширенными зрачками, похожими на чёрные бельма, и отвернулась. После отбоя Ося подняла её и уложила на кровать, Климас не сопротивлялась, просто висела на Осе, как тяжёлый мешок, даже не пытаясь переставлять ноги. Утром Ося заставила её подняться, объяснила, что иначе отправят в карцер, а там мокро, холодно и крысы.
– Вы нарочно меня пугаете, – сказала Климас. – Вы все нарочно меня пугаете. Они говорят, что я вредитель, а вы говорите про крыс. Но я не вредитель, какой же я вредитель… Они говорят, что я нарочно задерживала дела, чтобы лишить детей пособий. Но это неправда, я соблюдала отчётность, ведь нужно соблюдать отчётность.
Ося оставила её в покое.
Наконец, вызвали на допрос и Осю. Она вошла в знакомый кабинет, где не была уже три недели, глянула на календарь, лежавший на столе у следователя, и охнула про себя. Шестое декабря – день рождения матери. До чего же они довели её, если даже про день рождения матери она не помнила.
– Садитесь, – пригласил Рябинин. – Мы дали вам достаточно времени подумать. Рассказывайте, что надумали.
Ося только вздохнула. Он посидел ещё немного, побарабанил по столу пальцами, встал и вышел. Через несколько минут в комнату вошёл Иван Иванович, вежливо поздоровался, обошёл Осю кругом, встал прямо перед ней, постоял, разглядывая её свысока, статный, холёный, щеголеватый. На сей раз костюм на нём был тёмно-серый, а галстук – тёмно-красный. Киселёв, вспомнила Ося, начальник особого отдела.
– Ольга Станиславовна, у вас есть какие-нибудь просьбы? – спросил он. – Питание, здоровье, свидание?
Ося подняла глаза – он не шутил, даже блокнот взял со стола, чтобы записывать.
– У вас тут всё имеет цену. Чем я должна буду расплатиться? – хрипло спросила Ося.
– Да ничем, – легко бросил он. – Исключительно по причине моего к вам доброго отношения. А цену, кстати, всё имеет не только у нас тут, как вы изволили выразиться.
Ося задумалась. Просить свидания было не с кем, а всё остальное представлялось ей подачкой, оскорбительной и бессмысленной.
– Может быть, вы хотите узнать про мужа? – спросил он.
Ося прикрыла глаза, медленно, отчётливо сосчитала про себя до ста двух, как мать учила её в детстве. Иван Иванович терпеливо ждал.
– Я хотела бы узнать о судьбе мужа, – сказала Ося, стараясь говорить ровно. – Но должна честно вас предупредить, что это ничего не изменит. Я не буду ничего подписывать даже в обмен на это известие.
– Вы плохо обо мне думаете, Ольга Станиславовна, – сказал он, достал из кармана сложенный пополам лист и протянул Осе.
Ося развернула его, увидела знакомый почерк, строчки запрыгали перед глазами. Иван Иванович протянул ей стакан воды, она выпила нарочно медленно, мелкими глотками, растягивая время, собирая волю в кулак, потом снова взглянула на лист. «Ося!» – было написано на самом верху страницы. Она посмотрела на Ивана Ивановича, тот стоял рядом, руки в карманах, сочувственная, даже понимающая улыбка на губах, и у неё перехватило дыхание от брезгливой ненависти к этому человеку и всему тому, что он олицетворял. «Ося! – писал Яник. – Мне дали пять плюс пять, всего десять. Мы ещё встретимся, мы непременно встретимся, и я снова скажу тебе то, что должен был говорить каждый день, но сказал только один раз, при прощании. Твой Я».
Она протянула лист обратно, Иван Иванович взял его, задержал её руку в своей. Ося дёрнула, он не отпустил, поднёс поближе к глазам, долго рассматривал, потом сказал:
– Артистическая рука. Рука художника. Вам нужно рисовать. А вы чем занимаетесь?
Ося отдёрнула руку, сказала со всей силой ненависти и презрения, на которые только была способна:
– Вы знаете, даже если история простит вам то, что вы делали с нами, она никогда не простит вам того, что вы вынуждали делать нас.
Он поднял удивлённо брови, нахмурился и молча вышел из комнаты. Вернулся Рябинин, вызвал конвойного. Ося пошла по коридору, уверенная, что её ведут в карцер или на какую-нибудь изощрённую пытку, но конвойный вернул её в камеру.
Три следующих дня её не трогали, а на четвёртый Рябинин вызвал её рано утром, сообщил, что следствие закончено, протянул коричневую папку с множеством надписей на обложке и приказал ознакомиться с обвинительным заключением. Ося открыла папку, начала читать, Рябинин со скучающим видом уткнулся в газету. «Следствием по делу вскрытой и ликвидированной контрреволюционной шпионско-диверсионной повстанческой организации ”Польской организации войсковой“ установлено, что в деятельности повстанческой организации принимали участие…» – прочитала Ося. Смысл ускользал, пустые слова отзывались в голове мерно и тупо, как барабанный бой. Она пропустила пару страниц, наткнулась на «Список членов ленинградского отделения ПОВ», не нашла ни одной знакомой фамилии, кроме Ковальчика, перелистнула снова. Вот оно, главное. «…Обвиняется в том, что являлась участником польской националистической шпионско-диверсионной организации, занималась шпионажем в пользу Польши, проводила контрреволюционную пропаганду. Обвинение подтверждается показаниями обвиняемых Ковальчика Я. С. и Гныся Ф. Г. и известных следствию свидетелей… На основании вышеизложенного Ярмошевская О. С. обвиняется в преступлении, предусмотренном статьёй 58, п. 10 и п. 11 Уголовного кодекса РСФСР. Обвиняемая не признала себя виновной. Согласно п. 1 постановления ВЦИК от 16/XI-22 г. дело слушанием передаётся суду военной коллегии при Коллегии ОГПУ с применением закона от 1 декабря 1934 г. Старший оперуполномоченный Рябинин М. И.».