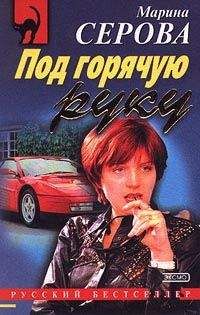Юрий Манухин - Сезоны
Я уже упомянул раскисшую позднеосеннюю тундру. Тундра на самом деле раскисла. Воды сверху много. Но разбухший торф покоился на твердой основе: совсем неглубоко была многолетняя, или, как еще ее красиво называют «вечная мерзлота», а проще — тот же самый торф, но только мерзлый. И проваливаться не случалось.
Оля шла очень хорошо. Раз десять я оборачивался, хотел спросить: не тяжело ли ей, но все десять раз, встретившись с Олиным взглядом, наполненным таким спокойствием, удовлетворением и упорством, проникался тем же спокойствием, той же удовлетворенностью и даже радостью, да, радостью, что мне не хотелось уж ни о чем спрашивать. Мы продолжали идти молча.
«Хлюп-хлюп-чвак, — без умолку разговаривала с нами тундра, — чвак-хлюп-чвак».
Я слушал тундру и, уверен, Оля тоже.
Видимость была отличной. Слева чуть сзади от нас возвышались скалистые горы полуострова Елина. Справа и впереди за мелководным заливом распластался невысокий полуостровок Лахтак. Он на самом деле походил на выползшего на сушу морского зайца — большого серого тюленя. А дальше, уже в самом море, ни к селу ни к городу, торчала громадина острова Крайнего, похожего на плохо натянутую палатку, берега которого (я это знал) обрывались в море двухсотметровыми уступами. Справа километрах в пяти от нас эта слегка волнистая и бурая, как осеннее футбольное поле, тундра смыкалась с правобережными террасами долины реки Островной, прямо по ходу она упиралась в большую горную страну, над которой в тихие вечера разыгрывали свои цветовые симфонии удивительные, уникальные закаты. Мы шли в эту горную страну, в долину безымянной речки.
«Чвак-чвак», — выговаривают сапоги.
Мы бы смогли идти по берегу моря. Там была песчаная осушка, утрамбованная волнами, как асфальт, но для этого нужно было сделать приличный крюк, а времени нет. Поэтому я от верховьев нашего базового ручья прочертил на карте по линейке прямую (подобным образом, говорят, поступил Николай I с железной дорогой Петербург — Москва) и, выйдя на тундру, взял азимут. А теперь мы шли по этой прямой, и можно было себя не проверять, так как далеко-далеко на горизонте впереди прямо по ходу был великолепный ориентир — остренькая горка.
Если сегодня мы пересечем тундру и хотя бы километра на три поднимемся по нашей речке, то будет здорово. А мы, конечно, пересечем ее и по речке поднимемся.
Самое красивое на тундре — маленькие торфяные озерки. Они часто овальные, наполненные водой до краев. Когда вглядываешься в них, то видишь голубовато-коричневое небо и беловато-коричневые облака и свое отражение, абсолютно не искаженное. В эти озера могут заглядывать только живые создания: утки, гуси, олени, медведи и очень редко — люди. Ни один кустик не растет на их берегах. И кажутся они бездонными, недоступными, таинственными. В Европе бы их сравнили с омутами. Я же сравниваю их с Олиными глазами. Это Олины глаза и по игре света. У нее странный цвет глаз. Глаза ее кажутся то голубыми, то карими, то вдруг чернеют до угля, то светлеют и становятся прозрачными. Никогда не встречал я таких глаз!
Говорят про хорошие аквамарины, что они голубой воды, про бриллианты, что они чистой воды, а Олины глаза были серой воды, нет, не водянистые, а как будто тяжелая серая капля утонула в глазах и высвечивает изнутри свинцовым блеском. И может быть, игра цветов в Олиных глазах и объясняется способностью преломлять краски мира. Ведь может же быть такое?
«Хлюп-чвак-хлюп-хлюп» — под сапогами.
Кому интересно, например, слышать про эти полуострова, острова, реки, тундры, озера? Кто хочет узнать о них? Относительно немного тех людей, кто сможет встретиться с подобными, а именно с этими, о которых я рассказываю, — десятки, а может быть, и единицы. И наверное, совсем ни к чему рассказывать о них, восторгаться ими, сравнивать с чем-то, хотеть, чтобы другие увидели то, что увидел ты, узнали то, что ты узнал, и полюбили все это так, как полюбил ты?
Боже мой, какая у меня толстая кожа! Я ведь ни разу не почувствовал на спине Олин взгляд. А она же все время смотрит в мою спину. А куда же ей еще смотреть? Это рюкзак виноват: он, как экран, отражает волны ее взгляда. Вон он какой громадный — и пулей не пробить, не то что взглядом. А интересно, какой у меня вид со спины под вьюком? Жалкий, наверное.
— Павел Родионович, смотрите, олень! Вон направо!
«Вот куда ты, оказывается, смотришь», — усмехнулся я и остановился.
— А я, Оля, иду и думаю, какой у меня вид со спины.
— Ничего вид. Да вы смотрите — не один, а раз, два, три, четыре, пять… шесть!
Со стороны Островной действительно выходило стадо оленей. Но далеко-далеко. Можно только догадаться, что это олени. И то, если глаза острые.
— Это не дикие, наверное. Это, может быть, колхозные. Километрах в двухстах есть колхоз «Путь Ильича». Я летом встречал одно стадо. Они часто сюда пригоняют оленей.
— А я вблизи никогда не видела стада! Может быть, подождем? Ой, что я за ерунду говорю!
— Нет, если ты хочешь…
— Да нет же, нет же! Идемте лучше.
— Ну, смотри!
И мы снова зашагали, время от времени поворачивая головы направо. А оленей становилось все больше и больше, и вот уже видна какая-то масса с отдельными островками.
— Хоть бы к нашей базе они подошли. Правда?
— Да, мясо сейчас не помешало бы. А то надоело одно и то же. Хотя осталось-то им на базе жить всего ничего. Перебьются. Перебьются? И мы тоже перебьемся. Перебьемся? Но мясо — это хорошо! — добавил я, проглотив слюну.
Олени исчезли через какое-то время, скрылись в складках тундры. Тундра ведь не биллиардный стол, а волнистая равнина, и тем более начали попадаться мелкие речушки — воробью по колено, но у каждой такой мелюзги была своя собственная, ею выработанная долина, и мы то шли под уклон, то топали вверх.
Горы начались не сразу. Сначала возникали на пути отдельные холмики морены, затем они сгруппировались, образовав типично моренный ландшафт. Холмы были пологими и поросли довольно густым ольховым стлаником. Идти стало и легче, и труднее. Легче — потому что под ногами теперь была не чавкающая тундра, а твердая, хотя и сырая земля. Труднее — потому что кусты и холмы никогда не увеличивали скорости путника.
Я торопился. За шесть часов пути только один раз перекуривал — это когда мы оленей увидели. Отдыхали же мы минуты по две через каждые полчаса. Присядем — и дальше. Нужно обязательно засветло добраться до нашей речки и как можно выше подняться вверх по долине. Тогда завтра холостой ход будет меньше. Но уже три часа, а мы с утра ничего не ели. Пора перекусить.
— Оля, пора, однако, подзаправиться. Не возражаешь? Чай, наверное, не будем варить.
— Конечно не будем — все равно ведь здесь нигде нет сухой веточки.
— Стой! Давай здесь.
Мы сбросили рюкзаки, с наслаждением расправили слегка ноющие плечи и, усевшись вдвоем на один ватник, откинули на рюкзаки свои потные горячие спины, блаженно вытянули ноги. Оба молчали. Посидев с полминуты, я встал, порылся в кармане рюкзака, вынул банку сгущенки и сухари, потом направился к речке, зачерпнул две кружки воды, вернулся и протянул одну кружку Оле. Сам пристроился рядом, вскрыл банку, и мы начали грызть сухари. Все-таки можно считать, что детство мое прошло на севере, и зубы у меня были не из тех, которыми можно запросто срывать железные пробки с пивных бутылок, поэтому каждый сухарь я хорошо размачивал, а Оля же хрустела ими только так. Еще мы по очереди прикладывались к сгущенке и запивали все это холодной водой.
Так близко и так долго мы еще ни разу не были вместе. Площадь расстеленного ватника была явно мала для двоих, и мне пришлось как будто бы волей-неволей, а на самом деле не без тайного желания, усесться почти вплотную к ней. Но миллиметр все-таки разделял нас. И вдруг наши плечи коснулись, и я вздрогнул оттого, что так светло все стало вокруг и оранжево, как будто глянул на мир через светофильтр.
Оля грызла сухари, поглядывала по сторонам, на небо. И ей, конечно, было наплевать на мои эмоции.
Чтобы справиться с волнением, я достал карту, разложил на коленях и сделал вид, что внимательно ее изучаю. А вообще я сидел притаившись и молил судьбу, чтобы Оля сделала еще какое-нибудь движение и хоть еще раз коснулась моего плеча своим плечом.
Это была пытка. Но что за пытка! Я мог бы часами вот так молча сидеть! Наверное, у меня вороватые глаза. Только бы она их не увидела. Не отрывать глаза от карты. Не отрывать.
Дурак, Павел Родионович, зачем? Стоило только отодвинуться на десять сантиметров, и между нами легла бы пропасть шириной в десятки и сотни метров. Но я сам выбрал эту пытку, и мне было хорошо.
— Павел Родионович, что-то небо затягивает.
Это будничное замечание вернуло меня из мира томительных ощущений на берег ручья, который петлял среди моренных холмов под северным небом. Действительно, если утром небо было приветливым, в полдень — равнодушным, то сейчас вид его тревожил своей неопределенностью. Из такого неба с равной долей вероятности мог пойти и дождь, и снег, оно могло и остаться таким, как сейчас, а могло и снова вдруг на короткое время засветиться теплыми праздничными красками.