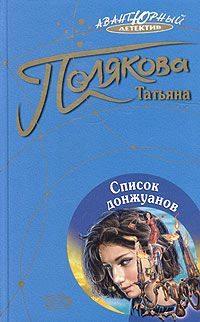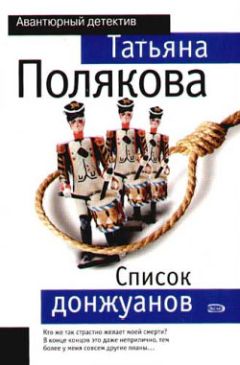Кетиль Бьёрнстад - Дама из долины
— Но и книги, и музыка были запрещены! — сердится она. — У нас дома на полке стояла только Библия!
— Как же родители решились отправить тебя в эту школу?
— У них не было выбора. Вмешалась служба опеки.
— Что ты натворила?
— Уехала с шофером-дальнобойщиком в Ивало. Это в Финляндии, далеко от границы. Он сказал, что он золотоискатель. Что он осыплет меня золотом, если я буду делать то, что он хочет.
— А чего он хотел?
— Можешь не спрашивать.
— И тебе это нравилось?
— Привыкла постепенно. Но кричать «ура!» мне не хотелось.
— Ты думала о золоте?
— Не смейся надо мной! Конечно, я не верила этим басням. Но я хотела уехать куда глаза глядят. По-своему он был даже добрый. Мы жили в маленьком отеле в Ивало. Жить в отеле уже само по себе казалось мне сказкой. Мы были в Финляндии. Чужая страна. Чужой язык. Думаю, тебе не понять, что это означает для человека, который никогда никуда не ездил. А только до безумия мечтал об этом.
— Я тоже не слишком много ездил.
— Не смейся. Ты проехал вдоль всего побережья Финнмарка. Приехал к нам из Осло. Я могла бы прожить в Осло всю жизнь. Это точно.
— Откуда ты знаешь? Там все не так, как ты думаешь. Даже большой город не такой, каким он тебе кажется отсюда. И если на то пошло, жизнь там мало чем отличается от вашей.
— Неужели? Знаешь, по-моему, ты трахался намного меньше, чем я. Что-то по тебе это не заметно.
— Есть много способов трахаться… если уж ты непременно хочешь употреблять именно это слово. Тебе могут трахать и мозги тоже.
— Как раз этим и занимались мои родители! Слышал бы ты их, когда они в церкви доводят себя до исступления. Когда вскакивают, подняв руки, и кричат. Как в экстазе. Будь я проклята! Честное слово. Они орут так, что стены дрожат. А их глупая и невыносимая музыка? После этих посиделок мама возвращается с сыпью на шее. А отец — с мокрыми губами. Я не могла этого выдержать.
— И что же сделала служба опеки?
— Дала свое заключение. Мол, я могу покатиться по наклонной плоскости. Поэтому мне необходимо учиться в Высшей народной школе.
— И ты приехала сюда?
— Да, слава богу. Здесь у меня еще есть надежда, что случится что-нибудь прекрасное.
— Значит, скажем так: Аня мечтала от чего-то освободиться, а ты — что-то обрести. Договорились?
— Думай как хочешь. — Таня кусает ногти.
— Вечное равновесие между дисциплиной и хаосом, — говорю я и сам слышу, как высокопарно это звучит. Словно эхо голоса Сельмы Люнге. Но удержаться я не могу. — Нам нужна дисциплина, но нам нужен и хаос. Моя мама была человеком порядка. Она каждый день ходила на работу. Каждую субботу утром мыла весь дом. Но воскресенье принадлежало ей. Тогда она пила. Праздновала конец недели. И слушала Баха, включив звук на полную громкость. Тогда она выливала на отца весь яд, скопившийся в ней за неделю. Она как будто сознательно жаждала потерять над собой власть. А если этого не случалось, в доме нарастало напряжение, которое рано или поздно вырывалось наружу.
— И что тогда случалось?
— Могу привести в пример последний раз. Да, что же тогда случилось?
Я медлю. А потом пытаюсь рассказать Тане Иверсен о маминой смерти. Я столько раз рассказывал об этом чужим людям. Но теперь я словно впервые понимаю то, о чем говорю. И моя история становится страшной. Я путаюсь в словах, вспоминая трагедию, случившуюся в то воскресенье. Вспоминаю яркий утренний свет. Четвертую симфонию Брамса, которую передавали по радио. Помню, что Катрине читала «Гроздья гнева» Стейнбека. Помню, как мы все пошли купаться в Люсакерэльве возле Татарской горки. Помню, мы быстро поняли, что течение слишком сильное. Помню две бутылки красного вина и то, что в тот день мама начала пить уже с утра. Помню, как почернели ее глаза, когда она сказала, что все-таки хочет искупаться. Помню страх, охвативший отца, когда он увидел, что она заплыла слишком далеко и ухватилась за скалу, чтобы справиться с течением. Помню, как она разжала руку и ее понесло к водопаду, помню, как отец схватил ее, и его самого тоже чуть не унесло течением, если бы я не удержал его, не спас. Хотя у нас с отцом были весьма прохладные отношения, я спас его, но тем самым убил маму, которую любил больше жизни. Убил, потому что удержал отца, потому что нас всех охватила паника, потому что рядом стояла и выла Катрине.
— А потом, — продолжаю я, — моя жизнь словно приросла к этому месту. К долине и реке. И у меня как будто уже не было причин стремиться куда-то еще. Да и теперь нет. Но все-таки я здесь.
Мы разговариваем с Таней Иверсен. Я рассказываю ей историю, которую сам осознал до конца только теперь. Которая и не была никакой историей, во всяком случае, историей, понятной людям, разве что немного мне самому. Но я ясно вижу, как Таня сидит за пианино и ждет, что я наконец скажу то, что важно именно для нее, скажу, что я все-таки не могу быть ее учителем. Ведь я не верю тому, чему научился сам! Меня словно что-то гнало сквозь образы, какие-то причины заставляли меня цепляться за местность, с которой я был не в силах расстаться. Может, поэтому меня и тянуло к Ане? Только потому, что она жила на Эльвефарет, продолжении Мелумвейен, улицы моего детства? И только потому после ее смерти я не мог расстаться с этим местом, осознанно или бессознательно возвращался туда, и жизнь в комнате у Аниной матери предпочел свободной жизни в квартире, подаренной мне моим учителем музыки Сюннестведтом?
— В основном для меня имели значение люди, которым нравилось, что я играю на фортепиано, — говорю я Тане. — Только благодаря инструменту я становился заметным. Но самое большое значение имел для меня дом Скууга, где посреди гостиной стоял великолепный «Стейнвей». Там я становился заметным. Становился личностью. Хотя вообще-то был никем. И ничего этого я не понимал до тех пор, пока впервые не рассказал это тебе, глядя, как ты сидишь у пианино и думаешь или веришь, что я могу чему-то тебя научить.
— Научи меня чему-нибудь, — тихо просит Таня.
Она сидит, сгорбившись, и слушает. Что, интересно, она поняла из моей истории? — думаю я.
— Может, я и мог бы чему-нибудь тебя научить, — говорю я. — Только вот — чему?
— Покажи хотя бы, как ты играешь на пианино.
— Тогда садись ко мне на колени, — говорю я.
— С удовольствием. — Она встает.
Я сажусь на табурет перед инструментом. Она садится ко мне на колени. И вдруг начинает смеяться.
— Вот это урок! — весело говорит она.
— Сосредоточься! — шиплю я на нее и краснею.
— Постараюсь, — хихикает она.
— Бах, — говорю я. — Без него нам не обойтись.
Она ерзает у меня на коленях, пытаясь завести меня.
— Прекрати! — строго говорю я.
— Я ничего не делаю. Но стальная пружина должна находиться посередине.
— Бах, — повторяю я. — Я велел, чтобы ты сосредоточилась.
— На чем я должна сосредоточиться?
— Положи свои пальцы на мои. Чувствуешь? Так.
Она повинуется. Я начинаю играть медленную прелюдию до-диез минор из второго тома «Хорошо темперированного клавира» Баха. Она выразительна и вместе с тем показательна для движения рук. Таня словно приклеилась ко мне и чувствует, как мои пальцы скользят по клавиатуре. Внимательно слушает. Мне хочется, чтобы она прочувствовала каждое движение, которое необходимо, чтобы овладеть этим инструментом. Она сидит у меня на коленях, как маленькая девочка. Внимательная и восприимчивая. Пристально следит за ритмичными движениями моих рук, легко и игриво держит свои пальцы на моих, но не мешает мне.
Неожиданно я слышу, как что-то вплетается в музыку. Ее голос. Таня поет. Сначала почти неслышно. Потом более громко, уверенно. Она поет не мелодию, ее она не знает. Но поет в соответствии с гармонией. Поет нижний голос в до-диез миноре. Вариации Тани Иверсен на тему Баха. Я с трудом верю своим ушам. Она поет, не сознавая, что делает. Почти не открывая рта. Поет не для того, чтобы произвести впечатление. А исключительно для себя.
Вдруг она умолкает. Понимает, что я ее слушаю.
— Продолжай, Аня, — прошу я.
Неужели я действительно сказал «Аня»? Заметила ли это Таня? В таком случае она не подала виду.
Но я уже перестал играть.
Она продолжает петь. Продолжает ткать дальше эту прелюдию, не нарушая настроения и не стремясь ничего доказать. Она вся в музыке. Глаза у нее закрыты. Я не двигаюсь. Не знаю, куда девать руки. Боюсь ей помешать. Она освободилась от моих указаний. Может самостоятельно двигаться дальше. И осмеливается занять нужное ей пространство. Словно подсознательно понимает, что я одобрю все, что она делает. В монастырских стенах звучит песня. У Тани чистый и звучный голос. Большой диапазон, неожиданно она импровизирует почти в трех октавах, берет ля малой октавы, но не резко, и переходит на альтовый тембр с таким грудным звучанием, какому ее не смог бы научить ни один учитель музыки.