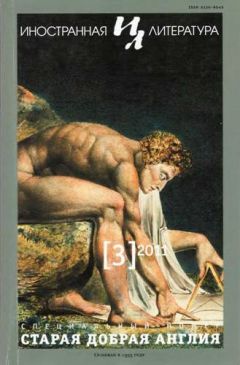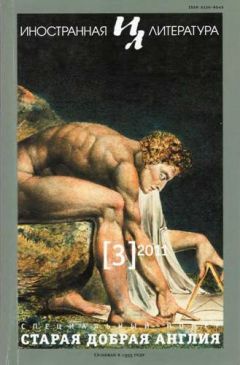Кристофер Ишервуд - Мемориал. Семейный портрет
- Уж прости, - сказала Маргарет, - такая досада, если это из-за меня ты в конце концов не поехал.
Проходило лето. Гавань кишела художниками. Он плавал, ходил под парусом, жарился на солнцепеке. Больше Маргарет не предлагала писать никаких Мими, но он часто чувствовал на себе ее иронический взгляд. Иногда вдруг положение представлялось невыносимым; а на другой день - смотришь, и сно-
ва все тишь, да гладь, и даже неясно, что могло покорежить. Любимая фраза Маргарет:
- Ничего, по-моему, нет такого неодолимого, если только люди по-настоящему честны друг с другом.
Как укол в самое сердце. Ей-богу, в один прекрасный день вдруг не выдержу: "Так-так, и кто же тут у нас честен?"
Похолодало, погода портилась, и как-то Маргарет предложила:
- Почему бы нам не пригласить сюда Оливье?
Оливье - один парижский знакомый. Молоденький балетный танцовщик.
- С какой это радости нам его приглашать?
- Просто, по-моему, он тебе нравится.
Как ни старался сдержаться, почувствовал, что краснеет:
- Я только очень хорошо знаю, что тебе-то уж он вовсе не нравится.
Маргарет залилась хохотом:
- Милый, ну с чего ты взял? И вообще, я-то причем? Не хватало нам только встревать в наши отношения с друзьями!
- Что-то я не заметил, - ответил злобно, - чтобы ты своих друзей-подруг сюда табунами водила.
- Моих друзей-подруг? - она улыбнулась. - Да откуда я их возьму.
На том разговор и кончился. А через несколько дней она опять перешла в наступление:
- Эдвард. Я хочу, чтоб ты сюда пригласил Оливье.
И так настроение было паршивое. Весь день дул мистраль, на вилле тряслись все окна, со стороны города неслись серые пыльные вихри. А у знакомого аптекаря вышли все порошки, которыми тот потчевал хронических жертв непогоды. Метнул в нее взгляд:
- С чего это ты взяла, что я сохну по Оливье?
Она ответила холодновато, как бы имея дело с капризным ребенком, холодновато, но терпеливо:
- Кто говорит, сохнешь? Просто я слишком хорошо знаю, что иногда тебе, кроме моего, требуется общество несколько иного рода. Вот я и предлагаю Оливье.
- Интересно, что ты хочешь сказать этим своим "обществом несколько иного рода"?
- Что говорю, то и хочу сказать.
- Типично женская черта - вечно тыкать человека носом в его обязательства.
- Не поняла.
- Ладно, объясняю доходчиво. Ты на меня смотришь так, будто я на тебе женат.
- Эдвард - ты это серьезно?
- Но я не потерплю, слышишь? Я не потерплю, чтобы надо мной потешались.
И по спокойствию ее ответа стало очевидно: она просто увещевает больного.
- Говоришь, сам не знаешь что.
Мгновенье он смотрел на нее со своей нехорошей усмешкой. Потом сказал:
- Могла бы, по-моему, избавить меня от этого последнего унижения и хотя бы не сводничать.
Она вышла из комнаты.
Потом снова был мир. Преувеличенное раскаяние, полная капитуляция. Все это печень. Мистраль. И мало ли что я плел - не верь ни единому слову. Она грустно качала головой:
- Нет, милый. Не надо. Кое-чему из того, что ты плел, хочешь не хочешь приходится верить. - Помолчали. Потом она прибавила: - Но ты, может, и прав. Иногда я бываю чуточку… собственницей. - Как он тряс головой. Но она сказала:
- Иногда я думаю - может, это никуда не годится. Я про наш образ жизни.
- На что-то сгодился же, нет? Она печально улыбнулась:
- Ты считаешь?
- Значит, для тебя не годится?
- О, я-то как раз всем довольна, - она ответила быстро.
"А зря" - вертелось на кончике языка. Но осталось невысказанным. Трус, как всегда, побоялся поставить точку над "Г. Вечер прошел ласково - но печально. Все было очень корректно. А наутро она объявила, что через несколько дней уезжает в Англию. Как всегда, взяла на себя этот неприятный труд - сделала первый ход.
* * *
- Я уверен, что одолеваю эти трудности, - говорил на своем прихрамывающем, но смелом английском молодой голландец, выбивая пепел из своей небольшой трубки и равнодушно озирая Place de L'Opera Бледный, можно сказать, плотный Эдвард кивнул вдумчиво и заказал себе еще абсенту. Голландец пил исключительно лимонад.
Неделю спустя они уехали из Парижа. Опыты производились в одном местечке, недалеко от Бовэ. Голландец изобрел новый тип самолетного двигателя. Экономил, как только мог, но скоро оказался на мели. Речь шла о каких-то несчастных нескольких сотнях. Эдвард телеграфировал к себе в банк. Маргарет написал с бесстыдным восторгом: "Я верю, это подлинное Воскресение из мертвых. Поразительно, после всех этих лет снова на что-то сгодиться. Одно жаль - я, кажется, начисто растерял все свои небогатые познания в технике. Но даже они постепенно, потихонечку возвращаются".
Маргарет ответила тепло, великодушно. Правда, между строк сквозила тревога. Зато прямой текст дышал верой в будущее. Глядишь, оно и принесет ему невероятную славу.
Все шло великолепно. Французское правительство заинтересовалось. Через несколько недель намечался приезд экспертов. Явилось несколько репортеров, поошивались поблизости день-другой и отчалили, разочарованные. Дни быстро мелькали в долгих часах работы, в спорах, пробных полетах. Да, оказалось - есть еще порох в пороховницах. Покончил с питьем. Сбросил с себя десять лет.
Голландец разбился, как-то утром, летая один, за несколько дней до приезда экспертов. Элементарная халатность одного из механиков. В воздухе сломалось шасси. Самолет скользнул на крыло и сгорел, превратился в груду лома через несколько минут после того, как грянулся оземь. Эдвард кидался в пламя, пытался добраться до места пилота - идиотство, конечно, но что же еще он мог. И как его только вытащили живым.
- Я буду продолжать, - объявил он Маргарет два месяца спустя, когда вышел из больницы.
- Если б только я могла побольше тебе помочь, - вздохнула она.
Но дело оказалось не так-то просто. Обнаружились какие-то юридические сложности, связанные с правом собственности на чертежи. Эдвард, разумеется, и не думал ничего оформлять. Явились родственники из Амстердама и все сгребли. Эдвард неделю целую лез на стенку, рвал и метал, грозился судом, писал бешеные письма. Маргарет помалкивала. Оба знали, что ничего он не может поделать.
* * *
Месяц спустя он смылся - прочь из Европы. Сначала в Дамаск, но нигде не находил себе места, мотало. Киркук, Сулеймания, Халабия. Кидался в горы. Посещал шейха Махмуда в пещере. В Халабии чуть не подох. Заражение крови - левая кисть и рука. Когда вернулся поздней осенью в Лондон, сказал Маргарет:
- Старею. Все, хватит, это было в последний раз. Больше никогда не сбегу.
* * *
Никогда не говори "никогда". На другое лето в Париже он встретил Митьку.
Прошел месяц. Вдруг накатило, и написал Маргарет - она еще оставалась на вилле. Приезжай, мол, к нам в гости. Как ни странно, она ответила, что приедет.
Эдвард подыскал себе мастерскую на Рю Лепик. Маргарет, улыбаясь, одобрительно ее оглядывала, пока он готовил чай.
- Ты на такое местечко даже права не имеешь, мой милый. Ответил - мол, придется заняться скульптурой, чтоб оправдать свое существование. Говорили по-французски. Затея
1. Киркук, Сулеймания, Халабия - города иракского Курдистана.
Маргарет: все эта ее тактичность. Но из Митьки не удалось ни единого слова вытянуть. Сидел, смотрел на них, время от времени - украдкой - сдвигая с глаз светлую прядь. От удивленной улыбки Маргарет ничто не могло утаиться. Задавала свои вопросики:
- А кто вам носки штопает? - и
- А кто из вас завтрак готовит?
Нет, это становилось невыносимо. Пришлось снабдить Митьку пятью франками: вытурить в кино. Маргарет смотрела на этот трогательный спектакль с улыбкой.
Остались наедине. Глядя в окно, хмурясь, руки в карманах, он спросил без прелюдий:
- Ну?
- Что ну, милый?
Он еще больше нахмурился:
- Как он тебе?
- По-моему, прелесть, - нежно выпела Маргарет. Начинало накрапывать. Он отвернулся устало от мокрой
оконницы, медленно прошел по комнате, сел на диван:
- Дурак я, что тебя сюда пригласил.
- Намекаешь, мой милый, - дура я, что приехала? -Нет.
- Должна признаться, - сказала Маргарет, - главным образом, я это из любопытства.
- Не одобряешь.
- Неужели мое одобрение столь существенно для твоего счастья?
- Наоборот.
- Но тогда…
- Суть в том, - он сказал со своей беглой, несчастной, нехорошей усмешкой, - что тебе надо было окончательно убедиться, что исключение и впрямь подтверждает правило.