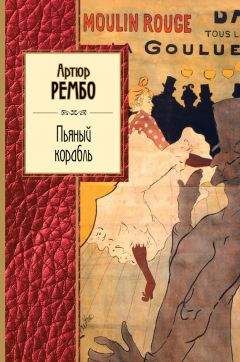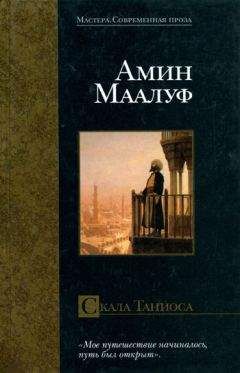Наталья Рубанова - Коллекция нефункциональных мужчин: Предъявы
Она постояла так еще какое-то время, потом опустила ногу и вспомнила про Вячеслава Незнакомцева: тот продолжал водить разогнутой ржавой скрепкой по шершавому в своей оранжевости апельсину.
— Ты разве еще не уходишь? — Лариса Незнакомцева посмотрела на часы.
— Я есть хочу, — сказал Вячеслав Незнакомцев.
— Неужели ты думаешь, что я в состоянии посвятить свою жизнь твоему желудку? — искренне удивилась Лариса Незнакомцева.
Вячеслав Незнакомцев ничего не сказал, а только еще быстрее начал водить бывшим скреплением листов по невесть откуда вывезенному цитрусовому.
Когда Лариса Незнакомцева уронила дореволюционный том «Капитала» на пол, Вячеслав Незнакомцев все-таки сказал:
— А еще я хочу продолжения рода, — и положил ногу на ногу.
Зрачки Ларисы Незнакомцевой расширились, а тонкие, обманно фарфоровые ноздри слегка раздулись:
— Детей можно хотеть только издали, как цветы. Неужели ты думаешь, будто я детородная машина?
— А кто ты? — спросил Вячеслав Незнакомцев.
— Балерина, — смутилась Лариса Незнакомцева и дотронулась до кончика носа.
— Ты давно не танцуешь, ты только учишь, как надо.
— Не смей! — Лариса Незнакомцева запустила в сидящего за столом человека мужеского пола толстенной «Историей костюма», и, промахнувшись, попала в апельсин.
Вячеслав Незнакомцев нагнулся, чтобы поднять яркое, но тут же получил по затылку вторым томом «Истории».
Лариса Незнакомцева смотрела на Вячеслава Незнакомцева сверху вниз, смахивая злые капли:
— Ничтожество. Я всю жизнь прожила с ничтожеством. А теперь должна еще готовить и рожать! Ты идиот, Незнакомцев. Князю Мышкину, по крайней мере, привалило наследство. А ты? Ты — кто?
— Я — идиот, — согласился Вячеслав Незнакомцев и, взяв с собой апельсин, вышел из комнаты.
Лариса Незнакомцева перечитала еще раз о сборе дождевых капель и вздохнула: «Ла-ла-ла».
Ла-ла-ла… Да и как еще можно вздохнуть по-другому?
Через два часа Лариса уже стояла у станка, бесцельно уставившись в маленькую точку белой краски на зеркале.
Девочки — легко и не очень — расплывались в шпагатах и пахли потом после фуэте. Лариса тянула кому-то носок, а выпрямляя спину «надежде русского балета», вспоминала почему-то свое хореографическое: последнее время это случалось чаще допустимого рамками инстинкта самосохранения.
Темная общажная комната; утро. Из окна дует. Она быстро одевается, пьет пустой чай, взвешивается и будит Вальку.
Валька с полустоном: «Есть хочу», — еще не открывает глаза, но когда через минуту встает на весы, приходит в ужас: лишние сто тридцать граммов!
Они несутся на характерный, потом на классический, а после сидят за партами, пытаясь въехать в негуманные химические формулы.
Валька под столом красит ногти, а Лариса вяло переписывает «СН4 — метан», недобрым словом поминая великого химика, укрепившего водку до современного градуса.
«Зачем?» — спрашивает в пустоту Валька, не получая ответа.
— Лариса Эдуардовна, я больше не могу, — кто-то отрывает Ларису от этих мыслей, и она подходит к подвернувшей ногу.
— Опять больно?
Та кивает и улыбается.
Лариса отправляет ее к врачу, а сама снова смотрит в маленькую точку белой краски на зеркале: все слишком обычно, слишком банально. Так бывает: «Жизель», «Анюта», etc, пятка, две неудачные операции, полная готовность к психбольнице, «…но ты можешь учить…», Незнакомцев, депрессия; впрочем, она никогда не была Плисецкой, хотя та и отмечала Ларису пару раз; только… в каком году?
— Всем спасибо, — Лариса, заканчивая репетицию, вдруг ощутила легкое покалывание чуть выше переносицы.
Оставшись в зале одна, она попыталась смахнуть это, но это увеличивалось пропорционально желанию смахнуть.
Лариса присела, сильно надавив на виски. Боль росла, становясь едва переносимой; перед глазами у Ларисы поплыло, а потом будто что-то лопнуло в области лба. Лариса посмотрела на белую точку в зеркале у станка и вдруг увидела Моцарта.
Он выходил из маленького трактира и, расстегивая ворот рубашки, одновременно пытался держаться за сердце; казалось, он думал, будто то выпадет из-под полы фрака.
Костюм Вольфганга был прост: Лариса разглядела темный короткополый жилет с узкой вышивкой, штаны темно-зеленого цвета да полосатые чулки. Ненапудренный парик съехал на бок, но Моцарт, казалось, этого не замечал, судорожно глотая воздух.
— Ларисэдуардн, Ларисэдуардн, вам плохо? — вторая группа толпилась вокруг нее, выражая крайнее любопытство и насилуя сознание отставной балерины нашатырем.
— Теперь плохо, — сказала Лариса, потеряв видение, но тут же исправилась: — Все в порядке, начинаем заниматься.
Домой возвращаться не хотелось; Лариса прикидывала, куда бы деть себя, одновременно озадачиваясь происшедшим: галлюцинация? давление? А может, она наконец-то свихнулась? Говорят, большинство сумасшедших — счастливчики!
Но почему — Моцарт?! У него же вроде ни одного балета, хотя при чем тут вообще балет?
А при чем — Моцарт?
Она присела на скамейку и мазохистично вспомнила Булата: роман со времен хореографического, неоконченная симфония на всю оставшуюся… Полный си-минор!
В «Кармен-сюите» он потряс ее и тряс до тех самых пор, пока Лариса не вышла за Незнакомцева: Булат не любил женщин. Собственно, их у него и не было. Классический гей, странным образом полюбивший Ларису, но странною любовью. Удивительно! Он казался очень мужественным, сильным; никаких «таких» замашек, этих игр с прическами и нарочитой «дамской» манерности — скорее, в общем, «актив», впрочем…
У него жил тогда мальчик — Лариса знала, но ее это не отталкивало; она понимала, что Булату мало просто женщины, пусть и балерины: он был талантлив, и, как выяснилось позже, бисексуален: это его раздвоение вопреки «натуральной» логике до одури притягивало Ларису.
Те, кто знал, говорили: «Ты сумасшедшая! У вас никогда ничего не выйдет!»
А она смеялась — знали бы они, как все у них вышло!
Потом были долгие разговоры, слезы, клятвы, просьбы… В последний раз он сказал, что сначала, конечно же, балет, потом все-таки этот мальчик, а она, Лариса, вообще «из другой области». Но без нее ему трудно, и если только она позвонит…
Лариса въезжала; въезжала она очень отчетливо и в то, что возвращаться в свой Курск не хочет — к тому же замаячило место в Театре современного балета, где после «Сотворения мира», без преувеличения, утопая в цветах, плакала театральная дива в гримерной, узнав, что Булат не пришел на спектакль…
Потом она каждый день бегала к нему, лежащему с температурой под сорок, поила отварами, лечила, а под конец свалилась и сама, провалившись в какой-то блаженный сон с огромным количеством не дремлющих микробов. А после выздоровления ей дали главную роль в «Анюте» — она прыгала до потолка, целовала Булата в щеки, и в тот вечер он сдался ей и сказал, что все-таки не совсем не правы были называвшие женщину венцом творения, и признался в любви, но… любовь эта снова оказывалась «из другой области».
К тому же в нужное время и в нужном месте обозначился Незнакомцев. После его джакузи, ароматного кофе и огромной белой машины Лариса задумалась — нет, не о машине, машина шла довеском; вообще задумалась.
«Ей уже… а она еще…»; Булат влюблен в мальчика, и ей светят лишь беседы при мерцании тусклой луны, да несколько ночей в год, оканчивающихся у Булата угрызениями совести, а у нее — двухнедельной мигренью и кусанием подушки.
Лариса подумала, что Незнакомцев — это лучший из худших суррогатов; сосуществовать с Булатом и его мальчиком она все-таки не решилась, боясь потерять сказку недосягаемости как со своей, так и с его стороны; к тому же «мальчика» любил Булат, а не она…
Какого-то сентября Лариса отправила Булату приглашение; белое платье не шло Ларисе, шляпка падала на пыльный асфальт, но Незнакомцев казался счастливым. Лариса печально поглядывала на Булата, а тот потягивал любимое «Кахетинское», после чего они довольно долго не виделись. Но как-то раз Ларису пригласили принять участие в благотворительном вечере; в афише их фамилии шли через одну.
— Как ты? — спросил ее Булат, запыхавшуюся, забегающую за кулисы, рвущую сверкающую пачку о ржавый гвоздь точно так же, как рвется душа, распоровшая себе живот, он же — жизнь.
— А как твой мальчик? — зуб за зуб.
Они долго изучали друг друга, будто впервые, а потом, опомнившись, закурили.
Моцарт, тем временем, направлялся к дому. Последнее время он пил больше обычного; Лариса видела его, держащегося за забор из рыжего кирпича.
— Послушайте, — сказала она ему, пугаясь собственного голоса.