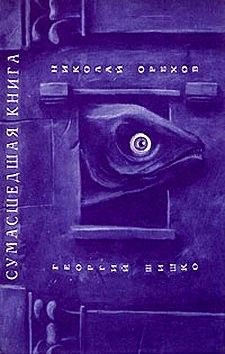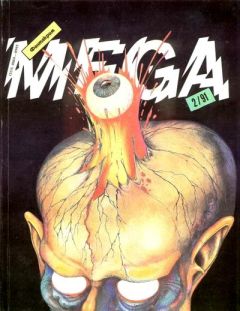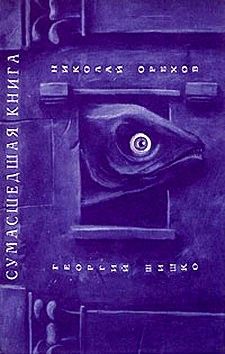Юрий Герт - Лабиринт
Однако странно — ни Гошин, ни остальные ни слова не сказали о Сосновском. И когда он выступил — его слушали с каменными лицами. Его как будто никто не слышал. Он с блеском опроверг все, в чем нас обвиняли. Его остроумие сверкало, как шпага. Но шпага колола пустой воздух. Он говорил о наших статьях, о том, что в них пульсирует живая, ищущая мысль, особенно остановился он на Рогачеве.
— Вы кончили?— сказали ему, когда он на секунду смолк.
— Аркадий Витальевич тут с благоговением произносил имя Белинского,— того самого, которого в свое время исключили из университета за неуспеваемость...
— Сейчас мы говорим не о Белинском, а о наших студентах,..
— Мы говорим о будущих Белинских!..
— Вы кончили?..
— На сегодня — да!..
— Я не считаю, что авторы статей для студенческого сборника совершили непростительные ошибки, — сказала Варвара Николаевна. — Я ни на минуту не сомневаюсь в их честных намерениях...
Ковылин говорил долго, как всегда плавно жестикулируя длинными руками. Он назвал выступление газеты ярким проявлением заботы об идейном воспитании студенчества, однако чрезмерно поспешным и едва ли не более запальчивым, чем убедительным... На многих лицах при этом проступили улыбки. Но мне казалось — оба чего-то не договаривали, чего-то самого главного. Они оборонялись, а нужно было наступать!.. Нужно было...
— И все-таки самая большая глупость,— вдруг вырвалось у Маши в неожиданно возникшей паузе,— самая большая глупость — это как я сегодня вела себя на кафедре...— Голос ее прозвучал тихо, совсем тихо, и, может быть, именно потому, что так тихо, все повернулись к ней с любопытством и той неловкостью, которая образуется, когда в компании подвыпивших и развязно балагурящих взрослых вдруг оказывается ребенок. Губы Олега досадливо дрогнули. А она огромными зрачками, превратившими радужную в узенький ободок, смотрела прямо перед собой, не видя ни грязных тарелок, ни скатерти с просыпанными окурками, ни галдящих вокруг столиков — ничего не видя, не замечая, словно очнувшаяся от сна и еще целиком поглощенная им.— Господи, до чего глупо! — Она тут же, но как будто через силу, встряхнула головой и прижала к обеим, налившимся огнем щекам тыльные стороны ладоней.
— Ничего,— сказал Олег,— это случается со всеми...— Мне показалось, он подмигнул мне.
Заговорили о кафедре, Кит хлопал меня по плечу, стыдил за наивность («Старик, это ты-то?.. Когда я услышал...), Марахлевскии почему-то вопил о Сергее, о том, что ему плевать на поэмы о доярках и рационе кормов, Олег шептал Маше на ухо что-то забавное, через пару минут все уже смеялись и острили, и Маша смеялась и пила из своего бокала маленькими судорожными глоточками.
Никто не выступал, не говорил о Сосновском прямо,— петля за петлей, петля за петлей, все ближе, все туже — и в сторону. Пока Машу не вынесло на трибуну, как будто взвило ветром.
— Я расскажу, как все было на самом деле! Да, мы ученики Сосновского, ну и что же? Мы любим его и гордимся...
— Товарищ, Иноземцева,— перебили ее,— а когда у вас возникла мысль написать статью?
— Когда?..
— Вот именно. После банкета?.. Кстати,вы много пили, на банкете?..
— Как и все, я...
— Но все потом никуда не ходили, а вы отправились...
— К Борису Александровичу!
— И там... В три часа ночи... Вы и там пили?..
— Мы пили... Черный кофе...
— Ах, черный кофе?.. Ну да, ну конечно же, черный кофе...
Вероника Георгиевна тонко улыбнулась.
— Почему вы не верите мне? Почему?..— как-то отчаянно вырвалось у Маши.
— Продолжайте, продолжайте,— подсказала ей Варвара Николаевна.
Но Машенька не смогла продолжать...
Под общий шум и крики ее наградили медалью Оскара Уайльда, и Олег сам, обернув конфету в серебро, прицепил ее к Машенькиному платью. Мне казалось только, что слишком долго возится он, что-то порочное виделось, мне в быстрых движениях его рук, как будто не платья, и обнаженной груди они касались.
— За приз Оскара Уайльда!— возгласил Кит. Но в этот момент, нетвердо ступая по ковровой дорожке кирзовыми сапогами, к нашему столу подошел невысокий плотный старик в распахнутом сморщенном пиджачке. Я еще раньше приметил его — он сидел в углу, медленно хлебал щи, подливая в стакан из пузатого графинчика. Выглядел ой среди ресторанного люда одиноко и чуждо. Тепло и еда разморили его. Блаженно щурясь, он озирался по сторонам, отбивая такт фокстрота и танго носком тяжелого сапога и безуспешно пытаясь завязать с кем-нибудь разговор. Был он похож на крестьянина, а скорее — на рабочего из леспромхоза, неплохо заработавшего, случаем очутившегося в городе и нечаянно забредшего в ресторан.
Чуть покачиваясь, он оперся о спинку моего стула большой рукой с круглыми темными ногтями.
— Это кто же такой будет — Оскар Уайльд? — сказал он, благодушно и широко улыбаясь,— Вы меня, конечно, извините, молодые люди, только я слышу, а не пойму...
— А это один англичанин, папаша!— весело отозвался Марахлевский.— Был такой англичанин!
— О! — сказал старик.— Англичанин!— Он присел на пустой стул. — Я в войну в Мурманске служил, англичан видел... Рослый народ, ничего... А большей частью — рыжий.
— Во-во! — поддакнул Олег,— Рыжий! В основном, папаша, это рыжий народ!
Вся компания по-новому оживилась, кто-то прыснул, девчонки, напружинив крашеные губы, сдерживали смех, Кит маслился от удовольствия, с дурашливым восторгом и на разные лады повторяя слова старика. А тот удовлетворенно улыбался, трогая корявым пальцем корни седоватых усов и радуясь — тому ли, что так легко и даже сам того не заметив сумел привнести столько веселья, или же — просто приятна ему была близость молодых, смеющихся лиц. Но в осоловелых глазках уже бродило недоумение, в поддакивании Олега чуялась издевка, и он заподозрил себя не соучастником, а предметом веселья. Он поднялся вдруг и, еще улыбаясь, сказал сердито:
— Чьи деньжонки-то пропиваем?
Все стихли, как перед новым аттракционом.
— Студенты мы, дед,— сказал Кит.— Стипендию получили — как не отметить?..
— Стипендия вам дадена, чтобы вы учились!— сказал старик и потрогал усы. — И после стирание граней произвели. Чтобы, значит, как трудовой народ и как интеллигенция, которая...— Он поискал еще какие-то значительные слова, не нашел и закончил: — Так вот, а не то чтобы!..
Он повернулся с достоинством и обидой, но я снова усадил его за стол. Мне приятно было смущение, которое заструилось по лицам, просачиваясь сквозь улыбки и смешки.
— Выпьем, папаша, — сказал Олег.— Чокнемся и выпьем — за трудовой народ и стирание граней! Чего ты раскипятился?..
— Что ж, — сказал старик, — я за то... Я только с тобой не желаю... Я вот с тобой желаю чокнуться, голубка ты моя сизая! — Он неожиданно потянулся к растерявшейся Маше, — И-эх, заманули тебя, дочка, не здесь твое место, не здесь...
Все выпили, Маша только пригубила бокал, вся как-то померкнув под жалостливым взглядом старика.
— Дед, а дед,— сказал Кит, — вот ты говоришь — народ, народ, а — что такое народ? Мы — не народ?
— Нет,— сказал старик, с пьяной хитрецой погрозив ему пальцем, — народ — это который землю пахает... А тут... Тут нет... Тут — так...— Он с добродушным презрением махнул рукой на зал, в котором кружились пары.— А народ... Там народ... Там...— Язык у него все больше заплетался, он повернулся, ища, показалось мне, окно, но оно было плотно задернуто шторой, старик покосился на ее жесткие складки и неопределенно показал куда-то в пространство.
— Народ — он все видит, да не скоро скажет,— невпопад заключил он.
— Это про бога!— подскочил Марахлевский.— Про бога так говорили... Бог все видит, да не скоро скажет!
— Про бога,— согласился старик.— А народ — это и есть бог, если по-нашему, по-советски...
— Ай да дед!— усмехнулся Олег.— Ты, дед, к нам в институт не пойдешь, лекции читать по философии?.. Только вот беда, мы атеисты, в бога — не верим!..
Все расхохотались.
— Атеисты... Это я понимаю... И в бога... Если по-советски... В бога... Это я понимаю...— Он что-то бормотал, подперев голову обеими руками, сонно закрывая глаза.
И снова, как тогда, у окна, мне отчетливо и страшно представилось, что мы несемся куда-то в черный мрак, в трюме, уютно и ярко освещенном, и нас качает, швыряет из стороны в сторону, сорвав с якоря, и мы смеемся, острим, звеним бокалами, чтобы заглушить вой, скрежет и скрип...