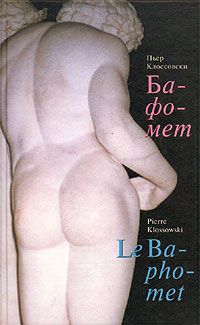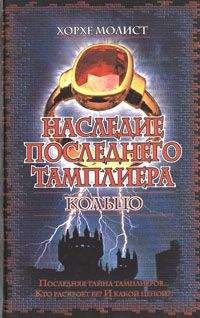Пьер Клоссовски - Бафомет
При этих словах Гермеса Артемида, носительница ночного света, хватает свой факел и зажигает его от молнии своего отца. Этим ритуальным жестом она объявляет о своем дочернем повиновении, но также и намеревается подтвердить блеск своего целомудрия и, по-видимому, упрекает Отца богов в насилии, которое он над ней учинил. Тем самым в лоне божественности царит единство, хотя отец и дочь в силу личностной множественности божественной сущности придают ему совершенно разный смысл. Этому учу тебя я, о Актеон, я, чья вечная, но ваяемая по воле богов форма так замечательно подходит, чтобы, смыкаясь с их непостижимыми намерениями, доставлять вашим чувствам доказательства их самоуправного существования: ваш рассудок слишком часто ставит его под сомнение, привыкнув как ему свойственно, не доверять реальности вад не зримых, принимать лишь то, что само идет в руки. Пусть в твои придет Диана!
Отраженная Диана
В своей легенде Актеон показан бредущим наугад, отнюдь не рассчитывая обнаружить Диану. Или же бредущим наугад с осознанным намерением застать ее врасплох. И в том, и в другом случае бредет именно Актеон, это он продвигается в пространстве, он приходит на место, где Диана уже начала купаться, когда внезапно появляется он. Итак, Актеон исследует пространство, в котором Диана успела разместиться в том или ином положении. В мире абсолютного пространства отдаленность Актеона по отношению к Диане столь же абсолютна, как неожидан и непосредствен их контакт; между их взаимной удаленностью и их контактом ничего нет; однако же, именно в этот промежуток и погружено размышление Актеона: значит, он создал себе напряжение, которое ведомо только поэту, которое способен ввести в выбранную им для изображения сцену художник, но наш герой либо испытывает неосознанно — и мы скажем, что именно это и заставляет его блуждать в священном лесу, — либо восстанавливает задним числом; но в какой момент? Когда он замечает купающуюся Диану, знает, что потерян, увидев ее растерянной? Или же когда чувствует, как его пожирают собаки? Или же, напротив, когда решает ее дожидаться в гроте и предугадывает дальнейшие события? (Возможно, именно тогда он и стал добычей демона-посредника; этот демон, поскольку он не является ни богом, ни человеком, но как бы отражением одного в другом, будучи сам исключей из мифического мира, в своем промежуточном положении кладет начало способу видеть и судить, присущему теологам1 и метафизикам; впредь он подразделяет вселенную на три области: богов, про которых говорит, что они бесстрастны и бессмертны; его собственных бессмертных и страстных собратьев; страстных смертных. Поскольку собственное бессмертие для него — просто-напросто нескончаемое время, оно становится объектом опыта; таким образом он проецирует в мифическое пространство время отражения; тем самым он переводит мифическое пространство, которое для него снаружи, во внутреннее или «ментальное» пространство и в своей роли посредника между двумя мирами, богов и смертных, все еще объединенными в абсолютном мифическом пространстве до его собственного посредничества, он задается вопросом, что такое «внешнее» и что такое «внутреннее», и в конце концов делает вывод в пользу небытия чистых видимостей: мысли. Так он направляет мечтания Актеона.)
Диана, судя по всему, не знает никакого другого мира, кроме мира абсолютного мифического пространства, в котором развивается ее охота: загнать, поймать, убить, искупаться. Но в приключении Актеона внезапно загнанной оказывается сама Диана, поскольку охотник застал ее безоружной и обнаженной. Этот инцидент принадлежит все еще миру необратимого и не дающего послаблений пространства: опасность, риск — как и на охоте, как и при купании после охоты — заключаются в том, что в этом же пространстве расположен священный заказник, где купается Диана, что тропинки, которые, кажется, никуда не ведут, выходят прямо на него. В этом же пространстве Диана кажется навсегда недоступной для Актеона; — через миг я ее оскверняю, — говорит он про себя; — через миг — этот ретроспективный опыт времени вносит сюда демон-посредник. И через миг я мертв. Но этот демон наделяет его способностью видеть ее и за гранью смерти и сказать себе: «И тогда она моется, пока собаки меня пожирают». И действительно, Диана заканчивает свое прерванное купание. Что происходит в ней, пока она моется, тогда как она только что превратила в оленя и скормила собакам человека, который увидел ее без покрова? Не продолжает ли его взгляд существовать и посмертно, после уничтожения, и сможет ли полностью стереть волна скверну с нее, с ее тела, которое совершило уничтожающий и стирающий жест? Этот вопрос уже не относится к миру абсолютного мифического пространства; поставленный демоном, он характеризует его болезненное любопытство, и это-то любопытство и определяет мрачное наслаждение Актеона. В пространстве мифического мира этот вопрос неуместен. Ведь Диана вписывает вечное возвращение своей женской периодичности (лунный полумесяц) и продвижение по кругу (охота, купание, восхождение на Олимп, охота и т. д.) в абсолютное пространство мифа, тождественное непримиримой сущности богов. Даже богиня принимает в своем божественном состоянии черты женственности, которые и определяют ее теофанию. Но здесь раздолье для демона. Диана, женственное божество, хочет быть в теофании целомудренной девой. Тем самым она отражает размышление о своей божественности: это в прямом смысле слова отраженное божество, пусть и в недрах мифического пространства. Таким обходным путем демон вкрадывается в качестве посредника прямо в ее теофанию. Не только потому, что он предоставляет ей для этого свое зримое тело, но и потому, что в качестве отражения Дианы кладет начало понятию о теофании нового типа: теофании в смысле теологов — в противоположность мифическому пространству; и все это исходя из обета целомудрия богини, отражения Дианы. Впредь, если в качестве божественного принципа Диана и бесстрастна, как богиня, отразившая свою божественность в девственном теле, она принимает страстность демона, предоставившего ей свое тело, чтобы она могла явиться целомудренной. Тем самым Диана позаимствованным телом подчинена времени отражающего размышления; но отражение мысли, которая является выходом из мифического времени, из вечного возвращения, обращает время в ментальное пространство; время не может подчинить божество, которое едино с мифическим временем вплоть до самой его периодичности; но отраженным временем отражение подчиняет случайности позаимствованного божеством тела.
Последствия теофании Купания Дианы, таким образом, двояки: будучи испускаемым божественным принципом светом, она приостанавливает и время, и отражение времени; тогда мифическое пространство окружает Актеона и свершается превращение в оленя. В этом экстаз бредущего наугад Актеона, вторгающегося в мифическое пространство, где купается Диана. Но эта же теофания пересекает мифическое пространство; и сама омывающая Диану волна оказывается тогда зеркалом ее неосязаемой наготы: отраженная Диана вновь вбирает в свой принцип свою на мгновение лучезарную красоту. С тех пор как он предался своим размышлениям, Актеон предвосхищает экстаз; к тому же он не бредет наугад, он ждет в своем ментальном пространстве, в глубине грота, что Она придет погрузиться в источник; между Дианой и Актеоном проскальзывает демон, который заводит свои теологические бестактности, и уже Актеон, перехвативший таким образом отражающуюся в своем отражении Диану, посягает на самую интимную простоту богини; или, скорее, эта простота от него ускользает, и ее заменяет сложность демона.
Предостережение Алфея
Прошло уже несколько дней, как Актеон не слышал своего демона. Ничуть этим не обеспокоенный, он, напротив, отдыхал от его обманчиво правдоподобной болтовни. Вновь волнуемые ветерком листья и источник разговаривали с ним и нежно убаюкивали своим перемежающимся шепотком его разум. Внезапно шум воды стал громче и настойчивее: и, со струящейся бородой, вдруг появился Алфей, но тут же приняв внятную форму, он обратился к праздному охотнику с такими словами: «Не обессудь, о Актеон, что меня взволновало твое замешательство; быть может, мой долгий речной опыт преподаст тебе какой-либо полезный урок. Вокруг тебя теснится куда больше случайностей, чем ты подозреваешь; до тебя, как и множество других до меня, неприступную охотницу, неуловимую Деву возжелал и я: и все же, она — божество, а я — всего лишь бог реки; если для того, чтобы поговорить между собой, боги любят принимать ту форму, которую они придали вам, смертным, ибо она является образом их сущности, то в своих раздорах они подчас противостоят друг другу переряженными и по-другому. Неравными были наши уловки в борьбе: когда текучесть становилась мне в тягость, я располагал только тем обликом, в котором ты меня и видишь; она же обладала множеством чар, чтобы избегнуть моих ухаживаний. И однако же, бросая вызов моим самым подспудным мыслям, она продолжала появляться передо мной как гибкая юная девушка, которую я всякий раз высматривал при приближении ее шумной охоты. И я был достаточно безумен, чтобы видеть в этом авансы и упорно принимал человеческий облик, чтобы ее соблазнить. Однажды ночью я проскользнул в хоровод ее нимф, но она заранее расстроила мои планы ребяческой выходкой: все они вымазали лица глиной, и я переходил в ее поисках от одной к другой, не раз и не два оказавшись и перед ней, смеющейся надо мною из-за своей земляной маски. Вернувшись в берега, откуда в скромности я выходил когда-то, в один прекрасный день я увидел ее в обличий нимфы Аретусы: как она приближается, колеблется, раздевается и наконец отдается моим еще медлительным водам, затененным ивами и тополями; это было слишком, и, увидев, как она, вот так обнаженная, но прикрытая осязаемой наготой Аретусы, будоражит руками и бедрами текучий покой моего затаенного духа, я в очередной раз поддаюсь безрассудной потребности преподнести ей свою мужественность под видом смертного; и вот, совсем нагая, она бросается от меня наутек; но образ ее наготы придает моему телу рождающуюся неудержимость моих потоков; а мое дыхание набирается смелости воззвать к ней по условному имени: Аретуса, вскричал я, Аретуса, куда же бежишь ты? Я выхожу из берегов, и чем больше мы пробегаем лощин, равнин между лесистыми холмами и скалами, тем больше я преодолеваю препятствий, а пейзаж подчиняется моим решениям и потворствует любовному гону; то я выигрываю в ширине, то углубляется мое русло; я гонюсь за ней до самого дна пещер, где она, запыхавшись, и спряталась, быть может, меня дожидаясь; тогда, оставив тот очаровательный облик, что пробудил во мне неистовство, она соглашается оказать почтение истинной моей натуре; жидкими и прозрачными становятся ее формы, смешавшись с моими; теперь я угадывал ее по сильному течению, которое она мне передавала; но, успокаивая так мое кипение в недрах земли, она размыкает бездны и через иные мрачные пещеры утекает оттуда до самой Ортигии; там она вновь выходит на свет и снова оказывается в своем чистейшем целомудрии. Таков был, о Актеон, самый счастливый урок перехлестывавших во мне через край излишеств; желание рассасывается с исчезновением формы, с которой оно было связано; и божественное могущество, дабы вернуть нас к нашему мирному движению, дает объекту желания иной вид; но самому желанию дает свойство узнать себя в его форме; желание меняется одновременно с тем, что оно преследует; оно собирается уловить свой объект в другой форме, и форма та тогда столь интимна для этого движения, что она доставляет ему удовлетворение его собственного закона: каковой не в том, чтобы сдерживаться или не разливаться — вплоть до застоя, — а торжествовать над собой в постоянном фонтанировании. Тем самым я преодолел самое тяжелое испытание, которому мы, речные боги, должны подчинить свои достоинства: опасность иссякнуть в угрюмом немотствовании. Победоносный, я продолжаю реветь: и Аретуса мне наградой».