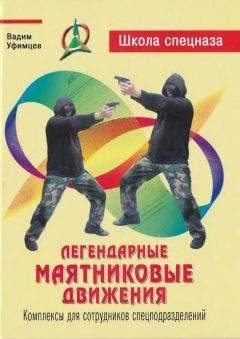Вторжение - Гритт Марго
Мы шатались по магазинам, притворялись иностранками. Ладно-ладно, не мы, Леся притворялась, а я молчала, глупо улыбаясь. Мы даже разыграли Валери из магазина бытовой техники, она меня не узнала. Я выучила английские названия телевизора, микроволновки, электрической плиты, кофеварки, посудомоечной машины, пылесоса, кондиционера. Мы выбегали на улицу и умирали со смеху.
vareshka: как переводится fikle visions?
blackheart: может быть, fickle?
vareshka: может быть:)
blackheart: только не говори, что слушаешь poets of the fall
vareshka: может быть:)))
blackheart: boooring. переменчивые видения, как-то так
vareshka: thanks
blackheart: <3
На полке стоял толстенный англо-русский словарь, но я все равно спрашивала значение строчек песен, хоть мне и хотелось задать совсем другой вопрос: мы подруги? Мы правда подруги?
Спрашивать на чужом языке было проще. Мы проходили Present Perfect. Have you ever been?..
– Have you ever been in love? – спросила я. – Ты когда-нибудь влюблялась?
– Да. В одного парня в восьмом классе. Правда, не смейся. По крайней мере, мне так казалось. И еще на первом курсе…
– В кого?
– Ignorance is bliss.
– Что это значит?
– Много будешь знать, скоро состаришься.
– Нет, правда, что?
– Да это и значит, дуреха! Пословица такая.
Дуреха.
А потом мы столкнулись с мамой. В целлофане слабо, но шумно бились рыбные хвосты, ручка пакета резала ее побелевшие пальцы. Помада за день стерлась, остался только контур карандаша, который задвигался, заволновался вдруг, изображая кривую недовольства. Я не говорила маме про Лесю, она не ожидала увидеть меня с незнакомой девушкой, которая выглядела старше меня, да еще и была в небрежно обрезанных джинсовых шортах, едва прикрывающих зад, – постыдилась бы – и рубашке, завязанной в узел над проколотым пупком. Из-под края шорт нагло вытягивали шеи чернильные розы. От ее уха к моему змеился тонкий белый проводок, и женский голос кричал: Call my name and save me from the dark [27]. Я быстро вынула наушник, будто не хотела, чтобы мама поняла, что мы с этой девицей как-то связаны. Да, Леся навсегда останется этой девицей. Не знаю, заметила ли мама мое запоздалое движение.
– Мама, это…
– Соседка, я живу в квартире под вами, – перебила меня Леся. – Помочь с сумками?
Не дожидаясь ответа, Леся выхватила из маминых рук пакет с рыбой. Соседка. А на что я вообще рассчитывала?
– Ты почему на сообщения не отвечаешь? – Мамин тон пока еще был сдержан.
– Я не видела…
– На часы поглядывай хоть иногда.
– Вроде не поздно еще, – проговорила Леся.
Мама смерила ее «тебя-забыли-спросить» взглядом.
– Я что, многого прошу?
Многого. Мне шестнадцать. Я могу не отчитываться каждый час, жива ли я?
– А что-то случилось? – Леся кивнула на аптеку, из которой мама вышла минуту назад.
Я надеялась, Леся ничего не поняла, просто хотела сменить тему.
Мама переводила внимательный взгляд с меня на Лесю, будто разгадывала кроссворд – больше чем приятельница, семь букв по горизонтали, начинается на «п», – потом всё-таки решила ответить:
– Две аптеки уже обошла, ни в одной нельзя давление померить.
– Вам нехорошо? Кажется, у нас дома был тонометр…
И у нас был. Даже два. Один электронный, которому мама не доверяла, другой старинный, механический, оставшийся после бабушки. Нужно было часто-часто сжимать грушу, чтобы накачать воздух в черную манжетку, затянутую на голой, покрытой веснушками руке, – туго же – приложить стеклышко фонендоскопа к локтевой ямке – ой, холодное – медленно выпускать воздух, откручивая клапан, прислушиваться и следить за стрелкой: на какой цифре засечешь первый удар пульса, а на какой – последний. Приходилось повторять несколько раз, пока не различишь легкий, едва заметный стук.
Мама записывала верхнее и нижнее давление в специальную тетрадочку, зеленую школьную тетрадочку в линейку, тонкую, всего в двенадцать листов. Их была уже целая кипа в ящике, рядом с тонометрами.
– Голова разболелась, – сказала мама.
– А, ну ничего страшного! – улыбнулась Леся, но мама нахмурилась:
– Как знать.
Леся вопросительно взглянула на меня, но я отвела глаза. В разговоре я участвовать не собиралась.
Сто двадцать на восемьдесят. Мама внесла показания в расчерченную табличку, подняла на меня глаза, взглянула, как всегда, куда-то мимо и спросила про эту девицу. Я сказала, что мы едва знакомы, соседка только раз помогла мне с английским, а на улице мы встретились случайно и вместе решили дойти до дома. Не знаю, почему я наврала.
Мы часами молчали, когда Леся лежала на полу, подложив под грудь подушку, жевала жвачку и переводила статьи или документы, которые ей присылали на заказ из московского бюро. Вентилятор шевелил плохо отпечатанные на принтере листы бумаги, исчерканные ручкой. Я валялась на диване с томиком поэзии Цветаевой – нам задали на лето найти любимое стихотворение и выучить наизусть. Я зачитывала Лесе стихи, а она мне – техническую инструкцию к кондиционеру.
– Алый змей шуршит и вьется, а откуда – мой секрет.
– Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на табличке оборудования.
– Я смеюсь, и все смеется, я – веселый мальчик-бред.
– Иначе может произойти возгорание.
Мы закрасили черным фломастером белки глаз Бритни Спирс, которая наблюдала за нами с постеров.
– Не могу спокойно работать, когда она на меня пялится.
Может быть, Леся говорила обо мне.
На одном портрете она пририсовала длинные, закрученные кверху усы, как у Сальвадора Дали, и зачеркнула белоснежную, будто из рекламы зубной пасты, улыбку, на другом приделала круглые гарри-поттеровские очки и сигарету.
– Твоя же комната, можешь хоть разнести здесь все к черту.
На всякий случай я развернула зубные щетки в стаканчике, чтобы мы с мамой не поссорились. Ну да, конечно.
Мне было лет пять, я выронила тарелку случайно. Из ошметков гречневой каши торчали острые керамические айсберги. Я знала, когда бьются тарелки, мама кричит и плачет. Я заперлась в ванной. Долго просидела на краешке, не решаясь выйти. Считала капли, стекающие на спину с выстиранных колготок, что сушились под потолком. Считать я умела только до десяти, и четыре раза приходилось начинать сначала. Зубные щетки, моя синяя и мамина красная, были отвернуты друг от друга, и тогда мне показалось, что в этом есть недобрый знак. Я развернула щетки и… Сработало! Мама тогда только пробормотала: «На счастье».
Не в этот раз. Мама наорала, посрывала размалеванные постеры и налепила над столом, где на обоях остались рваные раны, настенный календарь с тигром за девяносто восьмой год.
Мне снилось, что мама лежит под вентилятором на животе и я, маленькая, ползаю по ее спине и считаю родинки. Крохотная точка между лопаток, из созвездия Кассиопеи, начинает шевелиться, вспухать, разрастаться чернильной кляксой. Неровные края расплываются, и подо мной булькает горячая тягучая жижа, похожая на нефть, что заливает дрожащую чайку сплошным непроницаемым покровом. Даже с глазных яблок стекает черная жидкость, заполняет рот, и я задыхаюсь. Крылья будто отлиты из бронзы, тяжелеют, не поднять, перья слипаются, и кажется, что я вязну, тону в кипящем болоте, но чьи-то холодные пальцы, боже, какие холодные пальцы, обхватывают мое запястье и легко тянут вверх.
На Ч: чад, чадра, чай, чайка…
«Мертвые чайки во сне предвещают долгую разлуку с друзьями».
Каждый день я отодвигала окошко на календаре влево, отматывая лето на один день назад.
– «По-настоящему любишь только то, что любишь в данную секунду. Тогда принадлежишь избранному безраздельно. Но лишь на миг – и это свобода. Она прекрасна и непостижима, как логика полета стрижа. Именно так и должно быть».