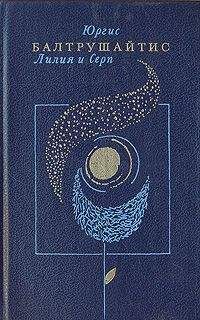Вержилио Ферейра - Во имя земли
— Если ты осудишь несчастного, совершишь преступление… — не без злобы сказала ты, поскольку считала, что так можно осудить любого, и тебя тоже. А в стране росло беспокойство, росло, ширилось. И я ответил тебе:
— Он, возможно, и не виноват, потому что безумец.
Но кто-то должен быть виновен, чтобы закон действовал. А дурак облегчает дело. Душа его всеобъемлюща, в нее можно бросить все, что хочешь. У нее нет никаких мерок: она не знает, что справедливо, а что — нет. Да, у дурака нет души, у него только тело, как у животного. И потом, почему же он не должен быть виновен? И не говори мне, что у него разум… потому что мы уже установили, что разум — в центре вселенной. Но мы-то живем на земле, которая — планета с определенным для нас интересом, и мы не хотим, чтобы нам портили то место, где мы живем. К тому же, существуют законы, чтобы мы не утруждали себя размышлениями, а кто хочет размышлять, пусть идет в лес. И Салус виноват так же, как мы, дорогая, однако кто-то должен платить судебные издержки, кто-то должен быть на виду. И он был виновником, потому что привел в движение фронт недовольных, который бодрствовал, и пробудил сознание тыла, который был в дреме. Он же заставил людей узнать то, чего они не знали, и вдохновил тех, кто уже знал, но сдерживался, не выступал. И все прошлое, настоящее и даже будущее наполнились безнравственностью. А он был единственным видимым средоточием безнравственности, смущавшим людей, а нам хотелось оставаться со спокойной совестью. И с тех пор как он наказан, наказано все движение, которому требуется другое заметное лицо, чтобы существовать. Но уже пора кончать беседу, потому что Антония зовет меня в ванную. Кстати, я предпочитаю, чтобы мыла меня она, но так не всегда получается. Предпочитаю ее, потому что она сочувствует моему несчастью, простая, грубоватая. Однажды меня мыла молодая, высокая, а я рядом с ней — маленький и несчастный. А уж когда она весьма профессионально мной манипулировала, то казалась еще выше. И мыла, как дурачка. И не разговаривала почти. Антония тоже делает со мной все, что хочет, но разговаривает. «Нет, вы только посмотрите на эти ноги, на этот зад, а ведь позавчера я все это мыла». И в какой-то момент, но не знаю, должен ли я тебе рассказывать… Она меня крутила и вертела… на этот раз моя мать не явилась в ванную, как это бывало обычно. Но заткни уши, то, что я хочу тебе сказать… моя мать не вошла. Ни мать, ни Микас — наша прислуга, — она только мешала, желая помочь. Ни даже моя сестра Селия, которая иногда тоже заглядывала, когда меня купали, чтобы проявить материнский инстинкт. Не знаю, говорил ли я тебе, что однажды встретил ее сына, вернее, он меня встретил: привет, дядя Жоан, — и я испугался. Он уже был мужчиной. Представительный такой и мы… привет, дядя Жоан — откуда он мог знать меня? Мы перебросились несколькими словами, словно устанавливали правила игры, но к игре так и не приступили. Он ни словом не обмолвился о своей матери, сообщил, что сам в разводе, работает на счетно-вычислительных машинах. Но о матери — ничего, думаю, чтобы я не спрашивал. А я все же спросил: а как мать? Но он молча развел руками и опустил голову, чтобы я понял, что на мой вопрос у него нет ответа. Потом сказал: «Не знаю». Можно было, конечно, спросить о чем-нибудь еще, но я понял, что на все, что мог ответить, он ответил, и я ни о чем больше не спрашивал.
Так вот, мать моя, как я тебе говорил, не появилась, как бывало, и хорошо, что не появилась. «Нет, вы только посмотрите на эти ноги, на этот зад, ведь тому несколько дней, как я все это мыла». И Антония начала мыть меня, мыла, терла, потом принялась за гениталии. Управилась с ними, точно собиралась их почистить песочком, как кухонную посуду. Потом вдруг стала придирчиво, точно под лупой, их рассматривать, исследуя не поддающиеся мытью места. И тут я сжал ее кисть. На какое-то время она замерла, выжидая, что последует дальше, но на меня не смотрела. Я чуть ослабил пальцы, державшие ее мозолистую руку, и медленно, едва заметно стал ею двигать. И тут она засмеялась, но не от души, души у нее не было, а видя, как обычные половые органы не желают служить чучелу старика, но я держал ее руку и не отпускал. Тогда она перестала смотреть на это, как на шутку, но я продолжал. «Ведь кто-нибудь может войти, представьте только, что появится хозяйка», — последние слова, последние выстрелы побежденной скрывали истину, но я не отпускал ее руку. Потом отпустил, и механизм сработал сам собой, я его подбодрил, и он сработал. Уж не начало ли мое тело существовать вместе со мной? О, Моника, моя дорогая, не слушай. Я начал вновь существовать с моим телом, а ведь так долго ничего этого не было, и огромное удовольствие и божественная сила заполнила нас, и я почувствовал, что мы пробудили Бога, и он пришел навести порядок во исполнение своего закона. И Антония стала снова мыть меня, но теперь с уважением, нежностью и опаской: как бы я опять не прервал ее работу из-за грубой выходки, которую она допустила.
Однако я тебе рассказывал о Салусе, но уже не помню с какой стати. Говорил о его вине, потому что он виновен в том, чего, возможно, не сделал. О, эта история вины, дорогая! Мы виновны все, однажды я сказал тебе: «Думаю, что во всем виноват Жозе де Баррос». Сострадание было мне доступно, я так хотел, чтобы ты себя простила. Мы все в чем-нибудь виновны, ни одно преступление не рождается из ничего. Виновны в том, что есть. И в том, что было, но мы достаточно пофилософствовали. И все же. В жизни должен быть порядок, и должны быть распределены роли, и каждый должен хорошо знать свою. Все законы несправедливы, но я не педагог. Поэтому скажу: все законы справедливы, что то же самое, только если взглянуть иначе. Каждый закон имеет свои правила, как и правило, которое их регулирует, и все они отрегулированы в бесконечности, — но это не совсем то, что я хотел тебе сказать. Мы и говорили о Барросе… То, что я сейчас хотел сказать, хотел сказать… Так вот, установить чью-то виновность или невиновность мы можем, только подвергнув всех одному и тому же испытанию. Я был судьей, это большое испытание для нервов — все должны быть подвергнуты испытанию. Сколько потенциальных преступников попадают в рай, только потому что имели счастье не быть подвергнутыми испытанию? Воры, террористы, убийцы. Сколько. Единственным подлинным судьей должен был бы быть Бог. Но он сам, дорогая, идиот или мошенник, потому что осуждает только тех, кто подвергся испытанию и выдал себя. И это он-то, кому все наперед известно, не знает ничего или же знает тогда, когда знать обязан. Потому что именно он должен осуждать не только тех, кому представилась возможность испытания и, воспользовавшись ею, они себя обнаружили, но и тех, кому она не представилась, и они себя не выдали. Единственным возможным судьей должен быть именно он, чтобы судить не только того, кто стал мошенником, но и того, кто стал бы им, если бы представился случай. Все это так сложно, дорогая. А я хочу тебя любить и ничего больше, ничего больше, ничего. И пусть стряпают любые законы и толкуют их для всеобщего понимания — что понимать-то? Единственное, что я хочу, это любить тебя. Истина — камень, и он — вот он, не надо ничего понимать, я хочу тебя любить.
— Знаешь, Жоан?
Любить, не взирая на весь навоз и хаос. Любить тебя там, где, возможно, тебя нет, но тобой все переполнено — что-то вроде этого, что я не могу выразить. Любопытно, не знаю. И иногда думаю — бессмысленно. Должно быть, это от старости, очень даже возможно. Жить духовно, когда уже нет тела, сопутствующего этой духовной жизни. В старости все реальное исчерпано, и остается только воображение или несистематизированный бред, бессвязные обрывки мыслей. Когда я был мальчишкой, может, я уже говорил, не помню, так вот, когда я был мальчишкой, в деревне жил один старик — если бы ты могла со мной навестить его? Старик был персоной важной — начальником железнодорожной станции или почты, или таможни — фигура, занимающая общественное положение. Так вот, в деревне у него был дом, или жена была из этой деревни, он овдовел, дети разъехались кто куда, и он приехал умирать в деревню. Жил один, по утрам к нему приходила женщина помогать по дому и уходила вечером. Звали его Жедеан — поехали к нему, не хочешь? так я поеду один. Стучу в дверь, женщина выглядывает в дверное окошечко и открывает щеколду.
Он здесь, на первом этаже, — гремит ее зычный голос, в деревне все так говорят, дорогая. Говорят зычными голосами. Нет, нет, голос усиливает тишина, тишина всегда усиливает все звуки, слова вроде бы произносятся для вселенной. В деревне даже секреты поверяются громко. Но это не первый этаж, это ниже, в бетонном цокольном, деревянная мебель, любимые полезные вещи для тех, кто не может ходить по лестницам. Я знаю сеньора Жедеана с давних пор. Еще со времен детских каникул, когда он приезжал в деревню со своими детьми, с которыми я и деревенские мальчишки дружили, тогда он был здоров и скор на ногу, мог ходить по козьим тропам. Или прогуливаться, что больше подходило для его возраста. Так он жил до тех пор, пока не умерла его жена и не разбрелись его дети кто куда, тогда он залез в берлогу в ожидании той неминуемой, что должна была прийти. Несколько лет она не приходила. Но приходила по утрам женщина, будила его, готовила ему обед. Он спускался по лестнице и поднимался наверх только к ночи.