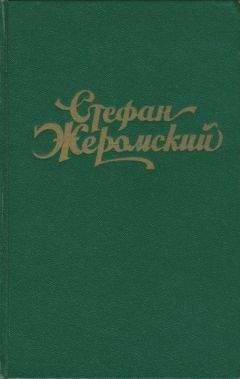Пьер Пежю - Смех людоеда
Он говорит: «После всех этих тревог, всего этого пота понимаешь, что оставшаяся материя, та, которая обрела форму, — это и есть жизнь, настоящая жизнь. Кулаками пробиваешь себе дорогу через хаос! Большие немые глыбы, которые ждут, пока ты им вломишь, — сгусток хаоса. Ты наведешь там порядок, ты принесешь туда любовь, нагонишь страх, ужас. Сечешь?»
Он говорит: «Я знаю, когда она закончена. Я это чувствую. Тогда я отхожу, отступаю и вижу пространство, которое появляется вокруг… Скульптура, такая тяжелая, такая твердая, нужна и для этого тоже: показывать пустоту. Видишь ли, пространство между формами — тоже форма».
Он говорит: «Статуи, эти каменные штуки, которые мы, надрываясь, высекаем, еще и дают нам почувствовать, что такое пребывать на земле. Они давят на нее своей тяжестью. Они с чертовской силой на нее напирают. И тогда мы рядом с ними понимаем, что могли бы взлететь, нас могло бы унести ветром. Когда они, эти скотины, уже существуют, мы уже ничего не значим, нас попросту нет! Они сами смотрят. Сами присматривают. А мы можем катиться на все четыре стороны».
И Доддс, закатываясь смехом, стряхивает последнюю каплю красного себе в стакан. Мне так нравится, когда он говорит «дернем» или «еще разок затянусь — и к станку», «надо это дело перекурить», и когда он протягивает гостю согнутое запястье вместо перемазанных пальцев со словами: «Держи пять, приятель, только у меня лапы грязные…» Старые добрые словечки. Старый добрый смех. Сечешь?
Вскоре я уже делаю, что могу, стараюсь приносить пользу. Колоть дрова для камина — какое наслаждение обрушить топор на полено, стоящее на колоде, лезвие одним махом его рассекает, обломки со свежими срезами летят в стороны и с глухим стуком падают. Усталости я не чувствую, штабели наколотых и аккуратно уложенных дров быстро растут. Доддс заметил у меня потребность что-то с силой делать руками. Своего рода отдых после тщательной проработки рисунка. Когда он предлагает мне поработать с глиной или гипсом, я так и бросаюсь мять, растягивать, лепить материю, давить ее пальцами, я стискиваю сырую массу ладонями, скребу, заглаживаю, потом жду, пока вещь высохнет и затвердеет. Доддс подходит взглянуть. Когда я смотрю, как он нещадно бьет, чертыхаясь, берется то за отбойный молоток, то за болгарку, то за полировальный инструмент, понимаю, чему мне еще предстоит научиться. Он ворчит, бормочет, посмеивается, сам с собой разговаривает и поет во все горло: «Жизнь такая, жизнь такая… Вспоминаю-забываю».
И вдруг я слышу у себя за спиной:
— Осторожно, парень, не увлекайся подробностями. Не перемудри. Забудь свои рисунки. Оставаясь дикарем, сможешь достичь куда большей тонкости. Сечешь?
Кажется, секу. Друзья Доддса уезжают. Приезжают другие. Его женщины и со мной очень милы. И где мне взять силы, чтобы уйти?
Наступает день, когда Доддс небрежно спрашивает, не хочется ли мне взять в руки инструменты. Он протягивает мне их, называет: зубчатый резец, долото, бучарда, рифлуар…
— Давай, намечай! Старайся уловить, как устроен камень. У него есть сердцевина и прожилки. У него есть свои слабости, свои потайные линии. Начинай потихоньку. Если будешь к нему внимателен, он понемногу перед тобой раскроется. Здесь звук более глухой. Здесь камень крошится, здесь он помягче, ты выбираешь, расчищаешь. А здесь, видишь, сопротивляется… Давай! Не только на глаз, но и на слух…
Я набрасываюсь на камень. Стараюсь изо всех сил. Доддс мне не мешает. Мои промахи его забавляют. Он объясняет мне, но так, будто он тут ни при чем. Мои волдыри лопаются, руки кровоточат.
— Ну, иди передохни немного, чтобы не сдохнуть. Пойдем выпьем.
С первым снегом, когда каменные великанши покрываются тонкой белой пленкой, я отправляюсь в Вирье, чтобы сесть в автобус, спуститься в долину, доехать до вокзала и вернуться в Париж. Доддс меня не удерживает. Протягивает запястье, заляпанное гипсом:
— Жму пятерню!
Он понял, что я вернусь, что я подцепил эту заразу, что теперь у моих рук, моих мышц, моих сухожилий и нервов есть свои требования.
Я возвращаюсь в Париж перед самым Рождеством. Меня оглушает толпа, мечущаяся по празднично освещенным ночным улицам. Я думаю о Жанне. Мне очень хочется ее увидеть, но я боюсь, толкнув ее дверь, услышать смех и застать на своем месте незнакомца, уплетающего яблочный пирог.
Мама вернулась из Веркора задолго до меня. Она сумела дать мне понять, что теперь хочет остаться одна в квартире над «Тремя львами» — чтобы жить своей жизнью, как она говорит. Тем лучше. Мне так нетрудно переехать. К тому же дядя, похоже, на меня страшно зол, я в его глазах отныне выгляжу подонком. Я участвовал в беспорядках!
Я напал на след Максима. Он более или менее ушел в подполье и мечтает о насильственных действиях. Мне хотелось бы рассказать ему о Филиберте Доддсе, но мои пластические приключения далеки от его сегодняшних навязчивых идей. Как-то вечером он ведет меня в мерзкую комнату, достает из ящика блестящий пистолет и гордо протягивает мне. Не знаю почему, но тон, которым он произносит: «Вот каким языком мы теперь будем с ними разговаривать…» — напоминает мне дядю с его «бугром». У каждого свой бугор!
Кроме того, я уверен, что Клара сейчас в Париже, потому что Леон, которого я тайком зашел повидать, сказал, что она недавно приходила и спрашивала обо мне.
— Плоховато выглядела немочка.
Я все еще не осмеливаюсь пойти к Жанне, хоть и горю желанием рассказать ей про Веркор, показать свои руки и попросить приюта и нежности, и потому решаю временно опять пойти разнорабочим в больницу Святого Антония в надежде встретить там мою ненаглядную медсестру.
Но в то самое мгновение, когда, слоняясь около гостиницы, иду потрепать по гривам моих трех львов, я натыкаюсь на Клару, которая в очередной раз волшебным образом оказалась у меня на пути. Не знаю, как она это проделывает. Очень быстро замечаю, что она неуловимо изменилась, хотя в чем именно — толком не пойму. Она стала чужая. Непривычно элегантная. В черном пальто и черных сапогах. Но главное — у ее синих глаз и в углах рта появились еле заметные серьезные складочки — может быть, от усталости. Они придают ей почти трагический вид.
Она подходит, кладет руки мне на грудь, целует в обе щеки. Запускает пальцы в свои коротко остриженные волосы и смотрит на меня с видом чувственной кошечки, способной отскочить в сторону, как только захочешь ее погладить.
Ясно вижу, что она чем-то озабочена. Я знаю про ее связь с Кунцем, и меня это не касается, но Кларе доставляет недоброе удовольствие на нее намекать. Она попеременно то как будто бы никакого значения ей не придает, то подчеркивает ее, радуясь, если удается меня задеть.
Резко пожимаю плечами и молчу. Клара тянется ко мне. Я отстраняюсь. Внезапно ее улыбка становится вымученной, лицо делается напряженным, губы кривятся. Она не может справиться с сильной тревогой, со смятением и растерянностью.
Несколько раз повторив, что ей и подумать страшно о возвращении в Германию, она вытаскивает из сумки ворох снимков. Недавние фотографии, сделанные неизвестно где. Ее объектив выхватывал людей разного возраста из повседневной жизни. Клара скомпоновала кадры так, чтобы показать выражение лица, тик, нахмуренную бровь, волнение, незаконченный жест. Эти безымянные лица окутаны, словно дымкой, беспредельным смятением. По глади заурядности пробегает зыбь неясной тревоги. Клара вырывает снимки у меня из рук, мнет их, скручивает.
Чуть позже, когда мы сидим в пустом зале гостиницы и я с ней довольно холоден, она снова меняется, роняет голову мне на плечо, кладет руку мне на бедро — как можно выше. Что она хочет со мной сделать? Или что хочет открыть? Вспоминаю, как в хижине у Черного озера эта белая рука тянулась ко мне из-под одеяла, под которым Клара была совсем голая. Но, может быть, мы обречены на то, чтобы бесконечно расходиться, магнетически отталкиваться друг от друга. Время течет. Безнадежно утраченное время, его не нагнать. Никогда.
Я не могу сопротивляться желанию обвить рукой ее плечи и снова чувствую ее запах, ее волосы щекочут мне щеку. Ощущаю ее дыхание. Улетаю в облака. Но она резко встает и начинает ходить по комнате. Не хочет сказать мне, что ее терзает. Спонтанная радость, обольщение, мимолетная нежность, ярость и отступление в далекий тыл.
Потом Клара, осознав, что слишком далеко зашла в своих внезапных переменах, касается губами моего лба — словно бабочка на мгновение опустилась на камень, и, пока она не улетела, можно разглядеть узор на ее крыльях.
Что на меня нашло? Хватаю ее за шею, зажимаю в тиски пальцев, ставших после Веркора мозолистыми. Она морщится от боли и неожиданности. Выхожу в вестибюль, хватаю с доски ключ и насильно волоку Клару в свободный номер на втором этаже.
Молча захлопываю за нами дверь. Свет в комнате рассеянный, пропущенный через розовые занавески. Клара сквозь зубы осыпает меня немецкой бранью, но не сопротивляется. Зато ругается страшными словами! Я прижимаю ее к стене, наваливаюсь всей тяжестью. А потом, как мешок, кидаю поперек кровати. Какая она маленькая, тонкая, руки-ноги разбросаны. Глаза брызжут ненавистью. Зубы сверкают: им так и хочется меня растерзать. Я грубо сдираю с нее всю шелуху, все шкурки, срываю черные одежки до тех пор, пока не остается лишь бьющаяся плоть. Побежденная Клара отворачивается. Потом ярость моя стихает так же внезапно, как стихает гроза, я отпускаю Клару, но теперь она сама меня удерживает, притягивает к себе, обнимает, и наслаждение, которое я испытываю, не имеет ничего общего со спокойной ясностью, какая была на берегах Черного озера, — оно куда более мощное, и к нему примешивается горечь.